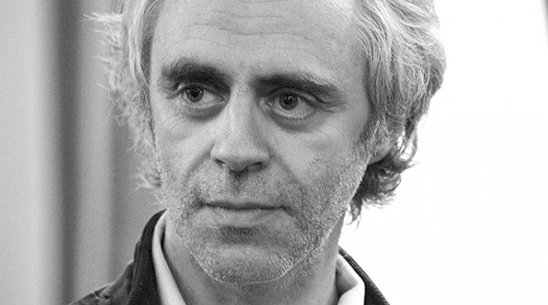Часть 1 .
Часть 2 .
Часть 3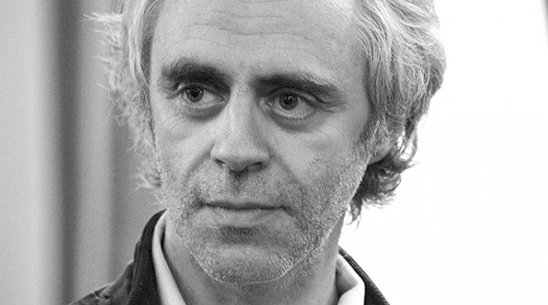
(повесть)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МИНУСГлава 1. Три встречи в Москве-1989***Витя Пальцев трясся в автобусе по московской окраине, точнее – по Чертанову в направлении юга. Автобус не влипал в пробки, он даже не знал, что это такое, но сам по себе ехал прерывисто и небыстро. Автобус остро и знакомо вонял бензином. Сидячие места в нем занимали не достойные сидячих мест и даже не охочие до них, а те, кого в случайном порядке вывалили на эти места в порядке пассажирообмена. Витю примкнули передней частью к какой-то металлической конструкции, обрамлявшей сидение, и теперь она сквозь пальто холодила ему участок от паха до верха живота. Время от времени – на виражах и при сгущении человеческой массы – Витю вдавливали в конструкцию, словно пытались отпечатать ее след на Витином теле.
Витя, однако, воспринимал свое положение в автобусе скорее как удобное. В металлической конструкции он видел твердую опору. Со стратегической точки зрения, в преддверии выхода, он уже наметил себе… ну, не то чтобы щель между телами, щели не было, скажем так, границу между людьми и намеревался ввинтиться в эту границу. Кроме того, в качестве бесплатного приложения к прочим удобствам (слово «бонус» тогда еще не вошло в обиход москвича) Витя наблюдал сквозь участок окна мрачноватую панораму Чертанова.
Оговоримся – он (как дисциплинированный советский гражданин) не видал ничего такого, с чем чертановские корпуса и чахлая поросль вступили бы в смертельно невыгодный контраст. Ни Манхэттена, ни там Елисейских Полей, ни античных развалин. С чисто логической точки зрения ему следовало принять видимую им реальность как данность – что он, собственно, и делал, как и вся остальная начинка автобуса. Но в этом приятии была доля угрюмства, и не потому, что мозги помнили «Клуб кинопутешествий» - нет, стерильные ландшафты в плохом телевизоре получались не милее Чертанова, нет, короче, не потому, а потому, что душа помнила что-то смутное – что март не обязательно должен быть таким холодным, снег – таким грязным, автобус – вонючим, пейзаж – аскетичным, деревца – чахлыми и голыми, а исконно белые корпуса - такими одинаковыми и опять же грязными, извините за повтор. Но, с другой стороны, через какой-то час он будет ехать сквозь это Чертаново уже на север (москвич понимает разницу), а еще минут через сорок будет мчаться на метро через центр Москвы, и если очень захочет – так и выйдет наружу, посмотрит на другие дома, а может быть, и на других людей, с другими маршрутами и дневными делами.
Автобус, напомним, ехал небыстро, как бы проводя безмолвную экскурсию по Чертанову. Витя Пальцев успевал рассмотреть и суетливого пса, и умную ворону, и растерянную женщину, как будто только что очнувшуюся посреди мартовского дня. А вот автобус – не спеша и со вкусом – миновал очередь в мясной отдел универсама. Очередь не вмещалась в универсам и тянулась еще метров на триста вдоль строения. Витя отчего-то представил себе, как они, пассажиры, тоже ведь по-хорошему не вмещавшиеся в автобус, высовываются из задней двери и очередью трусят по припорошенной снегом мостовой. И тут увидел в очереди Таню.
Они вместе учились сколько-то… что значит «сколько-то»? четыре года назад, и Таня нравилась Вите… временами. Худая, рыжая, астеничная, бледная, с острым носом, большими глазами и чуточку открытым ртом, она казалась Вите то поразительно, небывало красивой – то болезненной и какой-то дурацкой. Витя попробовал вспомнить, не всплывало ли в контексте Тани Журавлевой Чертаново, - и оборвал процесс, потому что это точно была она, ее легкая сутулость и твердая покорность. Витя дернулся было к выходу и даже приподнял руку, чтобы отделить тело от тела, но окоротил себя.
А есть ли ему, что сказать Тане через четыре года?
А есть ли гарантия, что именно сейчас, в очереди за мясом на мартовском свежаке, она ему сильно понравится, а не наоборот?
А ведь он тоже куда-то едет, по каким-никаким, а делам, и стоит ли так уж их хоронить за возможность поздороваться с Таней?
И еще одно обстоятельство. Не хотелось о нем говорить, да чего уж теперь. Выбегая из дома, Витя цапнул полиэтиленовый пакет – разумеется, первый попавшийся. Как говорит мама, а если встретишь козу в шоколаде. Почему именно коза в шоколаде олицетворяла потребительскую удачу в эпоху дефицита, Витя не задавался вопросом. Так или иначе, схватил пакет, а в метро, на эскалаторе, нащупал в нем какую-то окаменелость. Со смесью страха, брезгливости и любопытства засунул туда руку и расшифровал предмет. Это были его собственные скрученные и пересохшие плавки, скупо обсыпанные таким же пересохшим песком.
Восстанавливая связь событий - приблизительно в июле прошлого года Витя Пальцев наведался на московский пляж (память начала шевелиться и выдавать ненужные подробности), выжал плавки и швырнул в пакет, а дома вынуть забыл. И вот они там долежали до марта. Можно было бы, конечно, выкинуть их в урну вместе с пакетом, но жалко и плавок, и пакета.
Как были связаны засохшие плавки с Таней, Витя вряд ли смог бы объяснить. Допустим, даже Таня спросила бы, а что это у тебя в пакете, а Витя ответил бы: засохшие июльские плавки. И что тут такого?
Здесь уместно было бы сказать, что пока Витя так колебался, автобус умчал его далеко-далеко от Тани в очереди за мясом, но нет: автобус никуда не спешил и не мог поспеть за Витиным мозгом. Вся совокупность мыслей замкнула соответствующие нейроны – а Таня всё еще виднелась в углу окна. Потом автобус обстоятельно причалил к остановке и совершил обновление пассажирского контингента, а еще через пару остановок Витя в свою очередь совершил заранее намеченные процедуры, вышел в март, достал из внутреннего кармана пальто листок бумаги в клеточку и принялся сверять адрес с действительностью.
В Чертаново его интересовала школа – настолько типовая, что Витя сперва спутал ее с соседней, храбро войдя через присыпанный снегом задний двор. Уяснив ошибку, придирчиво осмотрел нужную школу с фасада, сверил номера. Прошел внутрь. Здесь действительно требовался учитель географии, но на тех же условиях, что и в пальцевской школе, примерно с той же нагрузкой, только на час дальше от дома. Витя успешно отказался, хотя что-то его смущало. Уже выйдя к автобусу, он осознал, вытащил на мартовский свет, что же именно его смущало: ему понравились директор и завуч, две симпатичные адекватные тетки. Витя обрадовался самой малости повода для смущения. Он представил себе всю тыщу московских школ, а перед каждой – пара теток, и он, Витя Пальцев, проводит конкурс адекватности. Подошел автобус – Витя присоединился к штурмующему его отряду, штурм увенчался успехом. Витя возжелал было проверить Таню в очереди за мясом – вполне возможно, что она еще торчала в уличной ее части, но от левого окна ему сейчас достался малый фрагмент, да и взгляд не добивал на дальнюю сторону Чертановской улицы. Поземка, встречные автобусы, автомобили. Краски за окном были стерты, внутри автобуса – нет. Вот, например, молодая женщина в сочно-красном шарфе. А вот синий-синий плащ всё равно на ком. Витины глаза отдохнули на красном и синем.
***Дальше он уладил пару настолько малых и жалких дел, что лучше бы нам с вами в них не углубляться, потому что это было бы то же самое, что нырнуть в плевок. К шести вечера жизнь вынесла Витю Пальцева на метро Новокузнецкая, приблизительно в центр зала.
- Витенька!
Витя оглянулся с интересом. К нему спешил Женя Волховский, молодой московский поэт. Ну, то есть как поэт… вот умрет, подождем лет пятьдесят, а потом выясним, поэт или не поэт. Сегодня мы бы сказали, что Женя
позиционировал себя как поэт, а тогда, в далеком 1989-м, оставалось только мекать и поводить руками.
- Салют, как дела?
- Дела? Прекрасно! Мы тут ввязываемся в одно начинание… Слушай! Айда с нами!
Вите не понравилось слово «айда», но он переспросил:
- А что за начинание? В двух словах? А то… кот в мешке.
- А ты не любишь котов в мешке? – заботливо уточнил Женя Волховский (наверно, псевдоним). – А, по-моему, такая прелесть – кот в мешке. Помнишь, у Экзюпери барашек в ящике? Это же кот в мешке!
- И всё-таки, - мягко настоял Витя.
- Ну… журнал.
- А концепция?
- Ишь чего захотел. Есть бабки. Вроде бы. А концепцию мы породим.
Тут Вите не понравилось слово «породим», что-то было в нем пародийное. Да и вообще Женя, хотя был ему скорее симпатичен, не будил в голове Пальцева деловых ассоциаций.
- Я ведь, Женя, не журналист.
- Ну да, - слегка помрачнел Женя, различив в словах собеседника интонацию отказа, - ты поэт. Служенье муз и всё такое. Можно подумать, что я журналист.
- Я ни разу не называл себя поэтом.
- Хорошо! Скажи мне, кто ты… и я скажу тебе, кто ты.
- Я учитель географии, который иногда пишет стихи.
Тут к Вите и Жене подошел улыбчивый коренастый парень. Он поздоровался, а Витя простился и рванул к себе на Войковскую. Сегодня вечером обещали показать по телевизору его любимые франко-итальянские «Три мушкетера», которые он просмотрел в детстве 11 раз подряд. Фильм действительно показали, но Витю неприятно поразила плохая франко-итальянская пленка, да и не только. Чужой мордобой и чужие поцелуи уже не столь увлекали. Мама осталась на вторую серию, Витя удалился в свою небольшую комнату и лег. Он представил себе, как несется на слегка вращающейся планете, элегантно разрезая космос. Собственно, так оно и было.
- Витюша! Тебя.
Витя Пальцев подошел к телефону.
- Старик! Узнаёшь?
- Если честно…
- Это же я! Игорь Зверев!
- Привет! А ты разве не в Америке?
- Нет, я в Москве!
- А говорили, ты свалил.
- Я свалил! Я приехал на неделю! Слушай, давай встретимся! У тебя как завтра?
- Уроки до двух пятнадцати.
- Ты учитель! Это похвально! К трем на Пушкинскую успеваешь? К памятнику, чтобы не искать!
- Да, - прикинул Витя.
- Договорились!
***- Следующий вопрос… - Витя, в глубине души не считая себя ортодоксальным школьным учителем, невольно овладел теми оборотами и интонациями, которые класс встречает мертвенной тишиной. – Припомнит ли кто-нибудь столицу Мадагаскара?
В острой тишине послышался предательски отчетливый шелест. Пальцев взглянул на знатного провокатора Гамшина – тот, не унижаясь подстольным чтением учебника, смотрел на учителя прямо и светло. Виктор отвел было взгляд – но устыдился собственного малодушия и, кашлянув, спросил:
- Может быть, вы, Гамшин?
- А знаете, о чем я думаю, Виктор Эдуардович? – спросил юный провокатор из 9 «А». Имя-отчество учителя в его устах звучали как ругательство. Впрочем, и в подчеркнутом выканье Пальцева сквозило нечто издевательское.
- О чем же? – вынужденно поинтересовался учитель географии.
- Я думаю, что никогда не попаду на Мадагаскар. И все эти столицы экзотических стран – просто упражнение памяти. Один бессмысленный список отзывается другим бессмысленным списком. Как шпионские пароли и отзывы. За тем исключением, Виктор Эдуардович, что шпион все-таки путешествует по планете.
- Как вы только, Геннадий, с такими мыслями посещаете уроки истории? Ведь Древнюю Спарту или Новгородскую Русь вам точно не удастся посетить.
В классе послышались смешки. Ободренный частичным успехом, учитель продолжил:
- Будь я психологом, Гамшин, я бы подумал, что вы не знаете ответа на вопрос и поэтому уводите разговор в сторону.
- Да Антананариву, - ответил гаденыш, скучая. – Можете не утруждаться оценкой, для меня это чистая условность.
- Отчего же, - пробормотал Пальцев и влепил юному негодяю отвратительную, жирную, красную пятерку, вложив в нее всю свою неудовлетворенность Божьим миром и собственным в нем существованием, а тут и звонок подоспел.
Икарус-экспресс довольно ловко домчал Витю до Савеловского вокзала; там он пересел на любезно выкопанное метро – и уже без пяти три оказался возле памятника Пушкину. Несколько молодых людей с вдохновенными лицами ожидали своих богинь, двое – даже с цветами. Витя встал в самое неприметное место и начал ждать своего эмигранта. Что их связывало? Несколько долгих метафизических разговоров, столько-то (ну, много) игр в карты, меньше – в футбол. Радостные рукопожатия при встрече. Почему радостные? Потому что молодые здоровые организмы вырабатывали радость и выделяли при малейшем поводе. Однажды Пальцев и Зверев случайно столкнулись в городе – кстати, недалеко отсюда, на Гоголевском – и сильно обрадовались.
Витя Пальцев посмотрел на зеленоватого Пушкина – тот, в свою очередь, смотрел на Пальцева свысока, как будто пролистал его стихи и остался не в восторге. Не вступая в мысленный спор с классиком, Витя перевел глаза на большие квадратные часы. Три десять. Он подавил желание уйти.
Тогда – напомним читателю – не было еще мобильных телефонов, и каждая назначенная встреча сбывалась без гарантий и страховок (а то и не сбывалась). Например, один ждал у памятника Пушкину или Маяковскому на улице, а другой – у бюста Пушкину или Маяковскому на станции метро. Или один элементарно опаздывал, а другой не дожидался.
Витя Пальцев определил себе джентльменский предел ожидания в полчаса. Март сегодня выдался не промозглый и колючий, как вчера, а вполне себе с человеческим лицом, сухой, приветливый, солнечный, с какой-то узкой нотой даже не тепла, а жары, с щебетанием неведомых птиц – хотя на виду помимо ворон, воробьев и голубей никого такого не наблюдалось. Климат не загонял молодого учителя обратно в метро. Более того, он вознамерился прошвырнуться по бульварам. Но скорее в одиночестве, чем с непунктуальным эмигрантом.
Три двадцать семь.
Пальцев поймал себя на том, что, пожалуй, не хочет встречаться с опоздавшим, и три минуты выжидает из спортивной честности.
Три двадцать восемь.
В небе кружит воронья стая на фоне белых облаков и голубых дыр.
Три двадцать девять.
Очередной молодой человек бросается навстречу легко одетой девушке с косичками. Они обнимаются с размаху. Пушкин не возражает.
Три тридцать.
Пальцев поспешно удаляется в направлении киноконцертного зала «Россия».
Три тридцать одна.
Зверев, торопясь, выходит из подземного перехода и близоруко оглядывается.
Глава 2. Девяностые, разбившиеся на эпизоды***Витя Пальцев надевает худую шубу и делает шаг в направлении школьных дверей.
- Виктор Эдуардович!
Пальцев оглядывается – сзади огненно-белая завуч, похожая на мифическое существо.
- Педсовет. Добро пожаловать в актовый зал. Тулуп снимите, пожалуйста.
Как сказали бы в следующем тысячелетии, у Пальцева возникает впечатление, что им манипулируют. Он уже открывает было рот, чтобы солгать нечто типичное, вроде визита к стоматологу, как завуч делает очередной ход:
- Мы вас сильно не задержим, - и удаляется в актовый зал, не оглядываясь. Пальцев две секунды смотрит в ее жирную спину, потом, ругнувшись вполголоса (это все-таки школа, а не пивная), стаскивает «тулуп» и аккуратно заходит в актовый зал.
Естественно, небогатым в количественном отношении педсоставом занята ничтожная часть зала – несколько первых рядов. Тут если и сесть на галерку, то этим как раз выделишься, да так и примеришь роль шута на весь грядущий педсовет. Витя, почему-то пригнувшись, идет по проходу в направлении первых рядов. Физрук, военрук и трудовик, оборачиваясь одними головами, скупо выражают Пальцеву гендерную половую солидарность.
Слева – свободное место, второе от прохода. На третьем от прохода сидит Марина (рус. яз. и лит-ра), которая иногда нравится Пальцеву. У самого прохода – здоровущая Олеся (естественно, биология). Витя Пальцев склоняется в пользу выбора второго от прохода места, но, прежде чем он делает окончательный выбор, Олеся встает, чтобы его пропустить. Пальцев протискивается под подбородком массивной биологини, своим подбородком проехавшись по ее обильной груди. В этих движениях нет эротического подтекста, одна голая задача о перемещении тела в пространстве. Пальцев занимает второе место.
На сцене стоят три стула и стол. Постепенно их заполняют директор, завуч и завхоз. Они напоминают Вите Пальцеву чудовище с тремя головами. Пальцев пусто фантазирует, что бы такого оно могло сказать, действительно его волнующего. Ничего кроме удвоения зарплаты в его (одну) голову не приходит.
Тут Олеся, не вмещающаяся в стандартное кресло и сидящая в нем по диагонали, перестраивается неожиданно легким движением и теперь занимает другую диагональ. При этом ее левые голень, колено и бедро вторгаются на территорию Пальцева. Тот вынужден сместиться влево. Теперь левая нога Пальцева автоматически смыкается с правой ногой Марины.
Обсуждаются не интересные никому мелкие хозяйственные вопросы.
Правая нога Марины длинна, стройна и упруга. Член Пальцева потихоньку встает, приблизительно как сам Пальцев в выходные. Директор заводит речь о дежурстве по этажам. Пальцев понимает, что это и его касается, и не может сдержать горестного вздоха. Марина утешительно берет его руку в свою и ободряюще пожимает. Член встает рывком и навытяжку, как будто связан с ладонью прямым приводом. Пальцев отчего-то думает, что если его сейчас вызовут на сцену, получится неудобно. Никто не вызовет. Пальцев зачем-то бросает взгляд направо. Олеся улыбается змеиной улыбкой Джоконды. Ладонь Марины суха и горяча.
***Одному молодому поэту то ли с Урала, то ли из Сибири (Пальцев как коренной москвич, хоть и географ, предпочитает эти понятия не различать) нравится 1 (одно) стихотворение Пальцева. Но, наверное, нравится сильно, потому что по приезде в Москву сибирско-уральский поэт Иван Валежин находит московского поэта Бориса Ежова, шапочно знающего Пальцева, и вот они трое сидят на пальцевской малогабаритной кухне, всю ее собой и занимая. Непьющий Пальцев встречает гостей чаем и рулетом; гости, ничего не имея против, достают вдобавок бутылку вина. Пальцев, не сведущий в стадиях алкоголизма, наивно полагает, что двум кабанам от одной бутылки ничего не сделается, но гостям оказывается достаточно буквально нюхнуть продукт, чтобы впасть в мутноватую сентиментальную искренность. Для нее ощутимо не хватает горючего, потому что ничьи стихи никому сильно не нравятся, за исключением одного пальцевского – Ивану Валежину.
- Я тебе скажу честно, только ты не обижайся, - говорит Иван Валежин Пальцеву, - остальные – говно. Ну… как тебе объяснить, не то чтобы говно, но… понимаешь, многое усвоено и переработано, и вот получается вторичный продукт…
- Так это и есть говно, - радостно узнает продукт Борис Ежов.
- А ты бы молчал, Боря, - говорит Иван Валежин (как пить дать, псевдоним). – Тебе до этого сто верст лесом.
Пальцев живо представляет себе сто верст тайги. Нет, наверное, все-таки Сибирь.
- То есть мне до говна еще далеко, - радостно и совсем не обижаясь похохатывает Ежов так, что его маленькие глазки утопают в лице. – Чувствую, мне предстоит долгий творческий путь.
- Да! – вскидывает голову Валежин. – Потому что говно органично, а ты мусолишь конструкты.
- А, извините, - элегантно меняет тему Пальцев, - напомните мне, Иван, откуда вы – из Сибири или с Урала?
- Я из Раменского, - с достоинством уточняет Иван Валежин.
- То есть направление угадано верно, - вновь встревает Борис Ежов, - а с расстоянием промашка. Для географа довольно роковая.
Пальцев некстати вспоминает, что именно в Раменском смотрел «Зеркало» Тарковского, и, к стыду своему, мало чего понял и запомнил. Фабрично-провинциальное Раменское восхитило его сильнее кинематографического шедевра.
Витя Пальцев смотрит на своих гостей и неожиданно, как если бы его душа временно и нестрашно отделилась от тела, видит всех троих с невысокого брежневского потолка, говорящих важные, но неточные вещи. Он хочет налить себе стакан вина и даже берет бутылку, но кисловато-бражный запах отбивает охоту. У Вити возникает мысль, что здесь, в этом времени-месте, на собственной кухне с собственными гостями, ему: нехорошо, невесело, неинтересно. И, стало быть, он неправильно жил всю свою жизнь вплоть до этого момента.
***В пальцевскую школу, извините за тавтологию, устраивается физиком физик, долговязый молодой мужик. В школе предусмотрено три типа туалетов: для мальчиков, девочек и учителей, и Пальцев после пары легких конфузов избирает туалет для мальчиков. Посетив его посреди урока, Пальцев застает там физика, справляющего малую нужду. Витя Пальцев предпочел бы уединиться в кабинке, но в 90-е не вошло в моду такое понятие, как privacy, и Витя не готов обособляться, отрываться от коллектива и возводить ненужные барьеры. То есть, слегка поколебавшись, он встает к писсуару.
- Гоша, - представляется физик, дружелюбно журча. – А ты географ?
Витя Пальцев соглашается.
- А чего здесь торчишь за копейки?
- А ты что устроился?
- Наберу учеников и свалю. Слушай, поехали завтра в частную школу?
Витя прикидывает.
- А когда?
- Ну, к трем.
- Ну, поехали…
***Физик Гоша представляет Витю директору частной школы как «уникального географа». Витя напрягается на минуту, гадая, что значит этот эпитет, но быстро понимает, что ничего. Директор улыбчивый, обаятельный и какой-то обтекаемый. Его бизнес – нравиться людям. Вите он (навскидку) нравится.
В его маленький кабинет набивается человек восемь новоявленных учителей (как ни странно, больше – мужчин); директор дает установку на все предметы:
- Карт бланш. Полная свобода методик… и от методик. Допустим, весь урок математики дети пропрыгали на одной ноге. Вася приходит домой, папа спрашивает, что было на занятии. Вася говорит: прыгали на одной ноге. Папа приходит ко мне, спрашивает, что за… (директор в последний момент выруливает) странная такая методика. Я объясняю про вальдорфскую школу, прилив крови к мозгу, хатха-йогу, аюрведу. Я многое могу объяснить. Собственно, всё кроме одного: Вася приходит домой, папа спрашивает, что было, Вася говорит: да то же, что в старой школе. Вот это я папе объяснить не могу. За что он платит деньги. Поэтому – варьируйте, ищите! Меняйте, что на что, не так уж важно…
Мужчина лет сорока оборачивается к Вите с Гошей и заговорщически шепчет:
- Буженинов не очень разбирается в педагогике. До сих пор он спекулировал сахаром.
- Буженинов? – спрашивает Витя. Мужчина легким движением затылка указывает на вещающего директора.
- И как сахар? – интересуется Гоша.
Информатор пожимает плечами.
- Сахар как сахар, - и отворачивается вперед.
- Для человека, который не очень разбирается, - задумчиво бормочет физик, - он очень разбирается.
Педсовет кончается. Пальцев тянется к своему худому тулупу, безвольно обвисшему на стуле. Буженинов ласково берет Пальцева под локоть.
- Куда вы, голубчик? У вас сейчас урок в 25-м. Дубленочку здесь оставьте, ничего с ней не случится.
- Через сколько урок? – ошарашенно спрашивает Пальцев. – Тема?
- Три минуты, как идет, - любезно сообщает директор. – Тема – на ваше усмотрение. Вы же географ, а не я. Незыблемо одно – любовь к детям и терпение. То есть – никого не выгонять.
- Я тебя подожду, - добавляет физик Гоша. – Протестирую буфет.
***Дверь 25-го приоткрыта, но Пальцеву кажется, что в свободный дверной проем как будто вправлен лист тончайшей папиросной бумаги, который ему предстоит порвать своим телом. Мифические дети по ту сторону листа затаились и молчат. Пальцев, застыв в метре от 25-го, пытается представить, сколько их и какого они размера, но не может. Его руки пусты; глобус бы ему сейчас не помешал, да где его взять. Наконец, Пальцев решается и рвет папиросную бумагу. В него, как говорится, утыкаются несколько пар глаз.
Что скорее хорошо, немного – семь-восемь. Следующее впечатление – дети отчетливо разновозрастные, как в деревенском классе с картин 20-х годов. Самый большой занимает собой заднюю часть класса, и он… очень большой. Пальцеву кажется, что если он встанет, то проломит потолок. Впрочем, гигант не собирается вставать, вид у него сонный и флегматичный, и явление Пальцева не добавило ему бодрости.
Чувствуя, что пора как-то начинать, Пальцев осматривает остальных оптом и вкратце. Замечает маленькую девочку с глазами живыми и умными, как у обезьянки, и мальчика со счастливой улыбкой.
- Здравствуйте, - предсказуемо начинает Витя Пальцев. Аудитория выжидательно молчит. – Я – ваш учитель географии… по крайней мере, на этот урок. Меня зовут Виктор Эдуардович. Эдуардович, - повторяет он для закрепления, хотя никто не переспрашивает. – Что у вас было на прошлом уроке географии?
- На прошлом уроке, - развязно отвечает мальчик еврейского вида, - был другой учитель.
- Это я понимаю, - терпеливо говорит Пальцев. – А о чем был урок?
- Так, вообще.
- Ясно.
- Он воспитывал нас, - неожиданно открывает пасть великан с задних рядов. Витя отмечает, что туда легко поместился бы биг мак. А то и два.
- И как, успешно? – интересуется Пальцев не без сарказма.
- Ну, - отвечает переросток, иронично приподняв бровь, - по крайней мере, он не пожелал насладиться успехом.
Пальцев думает вскользь, что здоровый – совсем не обязательно тупой. Но пора хоть как-то начинать.
- Глобус, - говорит он вдруг, хотя никакого глобуса поблизости нет. – Скажите, а почему люди наряду с картами пользуются глобусом?
Девочка тянет руку.
- Да. Как тебя зовут?
- Оля. Потому что Земля круглая.
- Правильно. Скажем, шарообразная. А давайте представим на минуту, что Земля кубической формы.
- Когда к нам придет следующий учитель, - пророческим баритоном замечает исполин из задней части, - мы скажем, что на прошлом уроке Земля была кубической формы.
- Я говорю: представим на минуту. – Пальцев не без опаски встает к классу спиной и быстро изображает мелом на доске куб и развертку куба. – Смотрите: если бы (если бы!) Земля была кубом, никто бы не пользовался кубическими глобусами, потому что развертка была бы совершенно точной.
- Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой, - дидактически замечает мальчик еврейского вида.
- Это тоже верно… - начинает было Пальцев, как до сих пор молчавший мальчик со счастливой улыбкой неожиданно орет:
- Х.й!
Пальцев, обомлев, пережидает секунду, но весь класс непринужденно делает вид, что ничего не произошло, и учитель предпочитает присоединиться к классу. На обочине сознания он припоминает призыв Буженинова никого не выгонять.
- Это тоже верно, - начинает он вторично и слегка тушуется, потому что в свете самых свежих происшествий непонятно, что именно верно. – В общем, суть моей мысли, что сферическая поверхность – ну, то, что нарисовано на глобусе, - не разворачивается на плоскость… без серьезных искажений. Это понятно? Ну… как бы вам объяснить. Весь шар мы и брать не будем, возьмем половину. Как принято – западное и восточное полушария. Попробуем сделать две карты.
Пальцев изображает на доске две одинаковые окружности, касающиеся одна другой.
- Похоже на… - начинает еврейский мальчик.
- Не будем, - успевает вставить Пальцев.
- …я хотел сказать, на знак бесконечности.
- Ну, отдаленно. Так вот – эти карты получатся с серьезными искажениями. Особенно по краям.
Поднимает руку симпатичный кареглазый мальчуган с короткой стрижкой.
- Представься и говори.
- Павел. А почему бы не взять половинку глобуса, ну, поверхность, не разбить на атомы, а атомы не выстроить на плоскости?
Пальцев ловит себя на том, что не понимает, почему бы так не сделать.
- Ну а как ты это сделаешь, Павел?
- Это уже другой вопрос.
Пальцев замечает, что из уголка рта счастливого мальчика вытекает вертикаль слюны, и вот-вот она достигнет парты. Оля старательно тянет руку.
- Да, Оля?
- Виктор…
- Эдуардович.
- Виктор Эдуардович, а вы были на Ниагарском водопаде?
- Нет, Оля, не был. Я о нем читал.
- А в Марианской впадине? – вполголоса интересуется великан.
Струйка слюны достигает парты.
***По внутренним часам Пальцева (учителя обладают таким органом) до конца урока остается 10 минут, и Пальцев не знает, как их прожить.
Тут звенит звонок, и обомлевший от счастья учитель понимает, что урок в частной школе длится 35 минут.
***Кабы не декабрь, Пальцев в тот же миг сбежал бы отсюда, но холода вынуждают его вернуться за дубленочкой. Буженинов непринужденно общается с Гошей; оба крайне рады видеть коллегу живым и практически здоровым.
- Вот и наш герой! – восклицает душка-директор. – Получили удовольствие? Это один из наших лучших классов.
- А сколько их всего? – светски интересуется Гоша.
- Пока три. Как вам ребятки?
- Ну… один…
- Понимаю. Немножко пускает слюни. Его папа обеспечивает половину нашего бюджета, так что, когда мальчик обосрется, вызывайте меня, я лично уберу. Ребятам урок понравился, так что милости прошу.
На этих словах директор вручает Пальцеву конверт. Еще через две минуты Витя и Гоша выходят на относительно свежий воздух Дегунина.
- Вот черт! Опять темно, - по-детски жалуется учитель физики на климатический пояс. – Ну, как тебе урок?
- Лучше скажи, как тебе буфет?
- Нормально. Говно, конечно, но вкусно и недорого. Давай огласим конверт.
Витя Пальцев вскрывает конверт под кстати подвернувшимся фонарем. Гонорар заметно превосходит муниципальный, но не космически. Здесь примерно половина недельного содержания городского учителя.
- Жить можно! – заключает Гоша. Тут у него едет нога по припорошенному снегом льду, но он, кратко ругнувшись, сохраняет равновесие.
Витя криво улыбается. Он оглядывается по сторонам, ностальгически запоминая типовые окрестности, потому что в ближайшие пару лет их точно не увидит.
***Однажды на ялтинском пляже – прямо начало песни Вертинского, прокрутим еще раз – так вот, однажды на ялтинском пляже Витя Пальцев проплыл под водой на секунду-две больше, чем надо, и когда вынырнул и встал, его мозг был чист, как отформатированный жесткий диск. А еще через секунду-другую всё восстановилось, лоскутки и пиксели склеились в песок, воду, тела и зонты, Витя припомнил свое имя и еще миллион ненужных подробностей, типа бывшего телефона бывшего одноклассника. Происшествие настолько незначительное даже не в мировом масштабе, а в масштабе биографии Вити Пальцева, что мы бы и не вспомнили о нем, если бы эта перезагрузка не произошла вторично ровно сейчас.
Пальцев встряхнул косматой головой, и мозг тихонько загудел-заурчал, восстанавливая папки и файлы.
Я, Витя Пальцев, иду по коридору собственной квартиры ориентировочно из кухни в комнату. У меня в руках металлическая благородная рыба, а на ней – сельдь под шубой. Вероятно, в маминой комнате накрыт стол, и там много народу. Впрочем, мозг уже перезагрузился, так что это простое кокетство.
Там свадьба.
А чья свадьба, Витя, у тебя на квартире?
Правильно, твоя.
Витя ставит на расчищенное посреди стола место металлическую рыбу и протискивается на свое место во главе прямоугольного длинного стола. Справа от него – безумно красивая Марина в белом платье. За столом – родственники, друзья, сослуживцы, Олеся, полузнакомые родственники Марины. Растерянная мама в фартуке вырисовывается в дверях. Пальцев широким жестом приглашает ее к столу; мама узко машет рукой.
Невысокий лысый говорун со стороны невесты встает и поднимает тост:
- С этим маленьким фужером, но с большим чувством…
Витя дожидается «горько» и целует Марину в горьковатые губы.
Ты счастлив, Витя?
Да, он счастлив.
***Так получилось, что Марина живет со свекровью, то есть с матерью бывшего мужа. Пальцев короткое время из (ложной) деликатности не спрашивал, ушел муж или умер. Выяснилось, что сперва ушел, потом умер. Так или иначе, он в определенный момент времени встал и ушел, а Марина осталась с Софьей Казимировной. Так, можно сказать, исторически сложилось.
И вот Витя Пальцев провожал, оставался, провожал, оставался, да так и осел, как осадок, на квартире Марины между Войковской и Водным Стадионом, а в какой-то момент оказалось, что эта опрятная пожилая женщина – даже не мать Марины, а бывшая свекровь. Согласитесь, странная конфигурация – жить молодым с матерью бывшего мужа.
- Понимаешь, - шепчет Пальцев Марине, - моя мать – хотя бы моя мать, а (он кивает в стену) вообще ничья.
- Ну почему, - совершенно некстати и слева возражает Марина, - у Игоря была сестра. Так что Софья Казимировна – мать Аленки.
- Так почему же она живет с тобой, а не с Аленкой?
- У Аленки своя семья в Тушино. Мы туда ездим.
- Мы?
- Ну, мы с Софьей. Но мы и тебя возьмем.
Пальцев смотрит в темный потолок. Ему не хочется спорить. Его сознание сейчас преодолевает парсеки между отходящими советскими стандартами и приходящими европейскими. Он понимает, что Марине просто не хватает слов русского языка (и литературы), чтобы объяснить, почему лучше жить с бывшей свекровью, чем с настоящей. Если уж у молодой страны, впотьмах нащупывающей тропинку к демократическому хайвею, пока что не хватает на всех брачующихся отдельных квартир.
- Ты права, - досыта подумав, говорит Пальцев Марине. – Мы будем жить тут, пока Софья Казимировна нас не выгонит. А ко всем остальным ходить в гости.
- И к Аленке в Тушино?
- И к Аленке в Тушино.
***Витя Пальцев как молодой перспективный (потому что молодой) поэт зван на презентацию поэтической книги с последующим фуршетом. Счастливый автор в пиджаке, галстуке и даже с пробором дарит Пальцеву тонкую книгу с лихим в отношении почерка автографом. Витя открывает книгу наугад в нескольких местах. Общее впечатление – очень много букв. Мелкий шрифт тянется прямо до низа страницы (благо номер все равно сбоку), а на следующей пестрит с самого верха. Стихотворения только что не налезают одно на другое, а эпиграфы настолько мелки, что приходится угадывать их по общим очертаниям. Впрочем, они стандартны:
блажен, кто посетил; степь да степь кругом и в том же роде.
Зал постепенно набивается человек до двенадцати. Здесь оптимистичный Женя Волховский и радостный Боря Ежов, да и не они одни. Попадаются бледные девушки с глазами либо нездорово горящими, либо нездорово потухшими.
Автор проходит к неработающему микрофону и заполняет пространство зала своими стихами. Стихи на слух ничего страшного. Впечатление такое, что где-то слышал, но забыл. Впрочем, и только что услышанное благополучно стирается из памяти. По итогам презентации Пальцев обнаруживает в своем просторном мозгу ровно одну строку:
необходим, как трамвай в снегопад. Пальцев внутренне одобряет метафору (если, конечно, это она).
Поэтическая часть вечера оканчивается аплодисментами и поклоном. Пальцев отмечает, что аудитория к концу как минимум удвоилась и продолжает прирастать. В воздухе легкое напряжение. Наконец, из неприметной двери появляются трое здоровяков в черных фраках с большими блюдами и кривыми улыбками. Они подходят к длинному столу с белой скатертью, ставят блюда и удаляются. В тот же миг над столом возникает как бы многоголовое насекомое, склоняется, припадает – и растворяется в воздухе. Пальцев любопытства ради подходит к опустевшему столу.
Стол похож на место изнасилования. Белая скатерть обезображена тремя-четырьмя пятнами разных цветов. Шерлок Холмс смог бы по ним восстановить содержание блюд, а человек поумнее продал бы скатерть в музей актуального искусства. Невнимательный наблюдатель сказал бы, что блюда пусты, но Витя Пальцев любит подробности. На блюдах остались веточки и стебельки укропа – разумеется, лишенные той ароматной махры, которую мы едим.
***Пальцева вызывают к директору, он идет туда без трепета. Зарплата учителя относительно окружающей действительности такова, что увольнение можно считать актом милосердия, типа эвтаназии. Зайдя в кабинет, Пальцев предсказуемо находит там директрису в кресле, а за ее плечом – завуча стоймя, как императрицу и фрейлину на парадном портрете.
- А, Виктор Эдуардович! – восклицает директриса, как если бы ожидала увидеть не его, а кого-то пожиже. – Как ваши дела?
- Вашими молитвами… - выжидательно парирует Пальцев.
- Ну, тогда хорошо. Тут, знаете, такое дело…
Директриса замолкает, и текст подхватывает завуч:
- Вот вы бы могли, например, преподавать эту свою географию на английском языке?
- Например? – Пальцев напрягается. – Ну, знаете, если бы очень надо. При крайней нужде.
- Прекрасно, прекрасно, - невнимательно одобряет пальцевский ответ директриса. – А если то же самое, но без географии?
Секунд восемь Пальцев молчит, уясняя сказанное. Женщины ждут, не выказывая нетерпения.
- То есть вы сватаете меня преподавать английский язык???
- Вы догадливы, - игриво отвечает завуч.
- А чем вас не устраивает Ирма Львовна?
- Нас, - отвечает директор за двоих, - всем устраивает Ирма Львовна. Проблема в том, что мы с недавних пор не устраиваем Ирму Львовну.
- Крысы… - начинает было завуч, но директриса перебивает ее довольно отчетливо:
- Давайте, Галина Спиридоновна, обойдемся без этих ваших мореходных сентенций.
- Как вам будет угодно, - говорит завуч и поджимает губы.
- Так как, Виктор Эдуардович? Можем мы рассчитывать на ваше понимание?
- Да причем тут понимание, – отвечает Пальцев, вполне пришедший в себя. – Это же будет дикий непрофессионализм, если географ будет вести язык. Сапоги тачать пирожник. Извините… но как-то странно, что я вам это объясняю… а не наоборот.
- Вы были бы совершенно правы, - директриса встает, с шумом отодвигая кресло, и подходит к окну, - если бы мы сейчас выбирали между вами и выпускником Гарварда… или Мориса Тореза. К сожалению, в объективно сложившейся ситуации мы вынуждены выбирать между вами и пустым местом. Либо вы будете обучать детей английскому… так или иначе, либо они будут бродить по школьному двору… и это в лучшем случае.
- С точки зрения оплаты не обидим, - вступает завуч. – Мы выпишем эти часы на Зою Фридриховну, а у нее шестнадцатая категория. Надо будет только раз в месяц брать у нее подпись в ведомости. Вы подумайте. Посоветуйтесь с женой.
Пальцев кивает, прощается и выходит. Не отойдя и пары шагов от двери, он слышит реплику директрисы:
- Этот откажется.
***Казалось бы, если два человека с двумя небольшими зарплатами объединяются, то их экономическое существование становится немного легче. Ну, например, если почитать перед сном, то теперь для этого приходится зажигать одну лампочку, а не две в разных районах. Уж не говоря о том, что можно заняться приятным бесплатным делом в темноте. И лишний кусок колбасы кто-нибудь, да доест.
Но отчего-то теория не сходится с практикой, и две зарплаты, сложенные вместе, кончаются на день-два быстрее, чем они же по отдельности. А каждый день на счету, когда приходится проживать его на бреющем полете с утра и до вечера.
Преодолев отвращение, молодые супруги садятся за стол с блокнотиком и планируют в масштабе семьи экономические реформы. Постановив взять еще больше часов в опустевшей родной школе, Марина и Витя переходят к расходным статьям и либо минимизируют их, либо упраздняют. Впадают, так сказать, в финансовую аскезу.
Как ни странно, система работает, и в очередной финансовый месяц молодая семья шагает с бюджетным профицитом. Правда, символическим, эквивалентным одному торту. Его и покупают, отмечая хрупкий баланс выживания. Празднуют ноль.
Как вы сами понимаете, говорить в таких условиях о детях – безумие, бред. Маразм, что там еще. Собственно, Витя не уследил, как возникла за столом эта тема. То ли Марина, то ли Софья Казимировна. Она – тема, - можно сказать, незримо тлела и вспыхнула вдруг.
Витя сдерживается, чтобы не закричать. Он сам чувствует, какого цвета его лицо. И дело не только в деньгах. Он буквально кожей ощущает нестабильность окружающего мира. Это почти то же самое, что рожать в войну. Впрочем, вспоминая годы рождения любимых хоккеистов, он отмечает, что многие из них были рождены в войну.
Тема, между тем, вспыхнула и погасла. Никому не хочется проговаривать до конца то, что и без того ясно. Но есть и другая сторона, и Витя прекрасно видит ее, непроговоренную.
Вите 28, а Марине – хоть и выглядит она безумно молодо – 31. Допустим, она может подождать год-два. Три-пять. Но есть ли уверенность, что за окном сама собой обозначится и окрепнет неведомая Новая Стабильность? И не будет ли она отвратнее старой стабильности – или этой обворожительной каши?
В конце концов, теоретически можно свалить. Преподавать австралийским аборигенам географию, русский язык и литературу.
***Витя Пальцев, слегка покачиваясь, едет в автобусе и слушает вполуха:
- В 93-м было ясно.
- В 93-м?
- Конечно, нет. Извини. В 91-м было ясно.
- Да, в 91-м было ясно.
- А в 93-м было мутно.
Тут Вите пришла пора выходить, и автобус увез от него устную историю отечества.
***Витя прогуливается с Гошей по парку в районе Большой Академической, вдоль побережья прудов. Географ мог бы сказать: каскада прудов. Витя припоминает, что он географ, и говорит:
- Гляди, Гоша, это каскад прудов.
- Да убожество это, а не каскад.
Витя Пальцев окидывает взором окрестности. Лето… почему? всё выглядит вполне прилично. Вдали белеет кинотеатр «Байкал» - ну, в качестве кинотеатра Витя его и при большевиках не использовал, а сейчас это мелкотравчатое торжище, но кинотеатр «Байкал» - заметный транспортный узел и географический ориентир, типа кафе «Ёлочка» на пересечении Севастопольского и Балаклавского.
- А почему убожество? – спрашивает Витя наивно. – Пруды как пруды.
- Да пруды нормальные. Но вот взгляни, - Гоша учительским жестом указывает на гопническую компанию, расположенную в опасной близости от наших гуляющих интеллигентов, - вот так вот валяться в неудобных позах на солнцепеке, потом ужраться плохим пивом, паленой водкой и беляшами… (беляши не дождались достойного эпитета), потом окунуться в эту грязную воду. Это выходной. А пруды, деревья, трава… они-то нормальные.
- Братан, сигареты не будет? – интересуется коротко стриженный гопник, приподнявшись на локте.
- Извини, братан, не курю, - в тон ему отвечает Гоша, и все участники мизансцены продолжают свои занятия.
- Ходасевич, - говорит Пальцев вполголоса, ожидая вопроса и готовясь объяснить физику, кто такой Ходасевич, но тот быстро и рассеянно отвечает:
- Именно. Этот плед, и жену, и пиджак. Я, Витя, подал на эмиграцию в Канаду. Нет сил больше на это смотреть. Знаешь, такое ощущение, что одно крохотное движение – и я пойму вот это вот всё, и оно мне понравится.
- Так в чем проблема? – простодушно спрашивает Витя, уже догадываясь, в чем проблема, но желая услышать ответ из первых уст.
- Я стану частью этого пейзажа. Экспонатом кунсткамеры. Человек ко всему привыкает – кто сказал? Мармеладов?
- Нет, Мармеладов вроде бы сказал, что человеку некуда идти.
- А он две вещи не мог сказать?
- Ну… он же не Ларошфуко.
- Бог с ним. Я не хочу привыкать. Я уже привык к одной большой аномалии и выворачиваться ради второй не хочу… братан. Отксерить тебе канадские анкетки?
- Да кому я там нужен.
- Не скажи, старик. Ты хотя бы найдешь Канаду на глобусе.
Приятели проходят одну прибрежную дугу молча. Радуются собаки и дети. Витя смотрит на собак и детей, пробуя вжиться в их состояние. Тепло, порывами налетает несильный свежий ветерок, в воздухе летают мячи.
Вроде бы можно жить…
***Вите Пальцеву сильно нравится 1 (одно) новое стихотворение Жени Волховского. И это странно по многим причинам.
Во-первых, сам Волховский хоть и нравится Вите Пальцеву, но скорее как персонаж, такой своего рода витальный клоун, а не как творческая единица.
Во-вторых, стихотворение длинное и перечислительное, а такой жанр не нравится Пальцеву вообще, сам по себе. Умеренно некстати Пальцев вспоминает приятеля, которому как правило нравились девушки длинные, а полюбил он невысокую и коренастую. Возвращаясь к стихотворению – еще бы хорошо, если бы оно нравилось Пальцеву несмотря на свою затянутость и перечислительность, а оно нравится именно этим. Еще оно начинается раз 7 или 8 – в каждой строфе, и в нем что-то свежее-свежее, похожее на запах то ли ранних огурцов, то ли арбузов, то ли стриженой травы.
В-третьих, странно, но Пальцев не чувствует зависти ни на грамм. Он чувствует только благодарность Жене Волховскому, который вот этим своим стихотворением оправдал не только свое пребывание в этом времени и месте, но и (парадоксальным образом) Витино, и еще 5-6 человек неподалеку, а, может быть, и само время и место. Как будто они старались артелью.
Повторим, это всего лишь ощущение Вити Пальцева, и что толку опровергать его фактами и логикой. Мы-то опровергнем – а оно останется.
***Марина очень попросила Витю внимательно проверить все возможности для приработка. Он очень внимательно, с тягостными визитами и звонками, прощупал обе возможности. Не дождался ни «да», ни «нет», а лишь обещания встречных звонков. В таких обстоятельствах… сами понимаете. Поэтому когда Марина открыла рот в постели на соответствующую тему, Витя заткнул его страстным поцелуем, а потом, выражаясь образно и филологически, сказавши «А», сказал «Б» - и так добрался если не до конца алфавита, то до «М» как минимум, и вот молодые супруги лежат на двух спинах обессиленные и счастливые и смотрят в потолок, как в просочившемся в Москву американском кино, и не хватает только закурить – но они не курят. А дальше идет время, один встречный звонок начинается с «к сожалению», а второй дает какие-то всходы, но такие ничтожные, что на них не получится прокормить и кота. И вот Витя лежит в темноте и думает, как бы сообщить Марине итоги. Отчего-то в Витиной голове вертится слово «unfortunately» - его надо для начала куда-то сплюнуть, чтобы объясниться по-человечески; Витя выдыхает, вдыхает и открывает было рот, но Марина закрывает его ладошкой и говорит – тихо, но отчетливо:
- Я беременна.
Внутри Вити происходит мгновенная переоценка ценностей. То есть его финансовое состояние остается прежним, но становится неважным, как бюджет Гондураса не для Гондураса. Витя вздыхает еще и еще – всё шире и глубже.
- Что с тобой? – спрашивает Марина обеспокоенно.
- Я счастлив, - говорит Витя. – Я счастлив.
***Начинается то, что в драматургии называется «общее движение». В него вовлечены не только будущие бабушки (что значит «вовлечены»?! они его возглавляют), но и Софья Казимировна, и Аленка в Тушино. Проходит время – так, как оно проходило в Москве 90-х, то есть не само по себе, а как будто тебе приходится потихоньку вращать все эти оси, шкивы, шестерни и прочие причиндалы, а вечером закрываешь глаза – и спишь. Вот так проходит около семи месяцев этого густого, ноздреватого, как хлеб, времени, и вот Витя Пальцев едет в Тушино забирать коляску. С точки зрения молодой учительской семьи, можно было бы и повременить недели три, но младшая Аленкина дочь Ксюша уже выросла из этой коляски, и это взаимно гуманно – забрать ее загодя.
Осень, Тушино. За окнами сквозь аутично прекрасную желтоватую листву поблескивает вода канала.
- Дядя Витя, давай я тебе покажу свои рисунки, - предлагает Римма, старшая Аленкина дочь.
- Давай, - соглашается Витя.
- Тебе чаю или кофе? – спрашивает сестра бывшего мужа жены Пальцева.
- Кофе, - отвечает Пальцев, - спасибо.
Никто не объясняет Пальцеву, как поднимать коляску, каким боком втаскивать ее в троллейбус и тому подобное. Как ни странно, Вите льстит это невнимание: стало быть, к нему относятся как к мужчине. Кое-как, чуть не кверху колесами запихав коляску в 70-й, Пальцев соображает, что как правило коляска будет с ребенком, и что, стало быть, надо овладевать щадящими технологиями. В 43-й от Сокола Пальцев громоздит коляску уже как надо, по-людски. В итоге у него ободран палец и потянута какая-то второстепенная мышца, к которой крепится ребро, но оно того стоило.
***Витя Пальцев берет часть нагрузки Марины – это получается так естественно, как если бы наши депутаты состряпали соответствующий закон: вывел работника из трудового строя – компенсируй. Русский язык не английский, тут не сошлешься на слабое знание. К тому же, несмотря на все предохранительные меры, директор и завуч оказываются в курсе, что Пальцев – в некотором роде поэт, и кому как не ему взять на грудь русский и литературу.
Класс оживляется, когда Свидригайлов отбывает в Америку: тут в литературе пропирается география, и Пальцев оказывается очень даже в струе.
- Виктор Эдуардович, - интересуется хорошенькая Люба, - а как он намеревался добраться до США? То есть я, конечно, понимаю, что в романе Свидригайлов говорит об Америке иносказательно, но если бы да, то как?
- А какие варианты, Люба? – мрачновато спрашивает Пальцев.
- Ну… морем?
- Да. Через Атлантику.
Поднимает руку пижон Пантелеев.
- Да, Витя?
- Еще в принципе возможно через Чукотку и Аляску. Я уверен, что Берингов пролив замерзает зимой, и его можно преодолеть на собаках.
- Это, Пантелеев, у вас получится отдельный роман «Свидригайлов едет в США».
Класс хмыкает, но не ржет.
- А может, и получится, - без вызова, с задумчивым достоинством говорит Пантелеев.
«А может, и получится», - думает Витя Пальцев.
***17 ноября 1995 года у Вити Пальцева (точнее, у его жены Марины) рождается дочь Зоя. Еще через пару дней он держит в руках неправдоподобно легкий сверток. «Здесь вся моя жизнь», - думает он неожиданно ясно и немного невпопад, потому что вот Марина, да и мама неподалеку, да и он сам, наконец, не говоря о хмурой Москве повсюду кругом, но то ли самое нутро Пальцева, то ли голос извне, великолепно игнорируя эти перечислительные доводы рассудка, повторяет:
- Здесь вся моя жизнь.
***Ближний универсам открывается в 8.00. Молоко кончается в 8.15. Без четверти у входа скапливается горстка молодых папаш, после отоваривания часть из них топает на молочную кухню за творожком и кефирчиком.
- Диатеза нет? – озабоченно интересуется здоровый малый в ушанке.
- Умеренно, - отвечает Пальцев.
Малый кивает, как будто именно это ему надо было услышать.
Москва бела и тиха. Чтобы граждане неслись на работу – такой порыв незаметен. Та жизнь, когда неслись, как-то исчерпалась, и теперь надо, скорее, подумать. Час туда-сюда ничего не значит. Впрочем, это не относится к школьному учителю. Поглядев на часы, Пальцев слегка замедляет ход, чтобы принести домой пакеты, тихо оставить в прихожей и без остановки отбыть на второй урок.
***Зоя неожиданно чихает – внятно, как взрослый человек. Витя, заранее умиляясь, подходит к ней – Зоя смотрит на него своими голубыми глазами абсолютно осмысленно и даже с высоты какого-то не доступного Вите знания. Вите почему-то становится очень страшно. Он криком зовет Марину из кухни – та мгновенно приходит. Зоя переводит взгляд на мать. Марина бледнеет и садится на диван, но тут же рывком встает и прикасается губами к Зоиному лбу. Зоя чихает.
В каком-то невыносимо медленном стрекочущем времени Витя и Марина разворачивают телефонную книгу, вызывают врача на дом и детскую неотложку, а потом и скорую. Зоя не плачет и не хнычет, а только смотрит на родителей своим взрослым нездешним взглядом. Звонят в дверь – ватные ноги Пальцева не работают. Марина бежит открывать. Проходит кто-то в белом халате, моет руки. Звонят еще.
Естественно, оба доктора и бригада прибывают практически одновременно, как в аляповатой комедии. Не сердятся, не удивляются и даже не смеются. Экономят эмоциональный ресурс. Наскоро осматривают Зою и устраивают мини-консилиум, после чего делают обезумевшим родителям официальные заявления.
- У девочки легкий насморк, - говорит участковый врач Анна Георгиевна. – Тепленькая водичка с сахарком чуть-чуть. Или ничего не давайте, само пройдет.
- А почему она так смотрит, доктор? – спрашивает Марина, не боясь показаться идиоткой.
- Как смотрит. Нормально смотрит. Чудная девочка. В маму.
- Вызывайте, не стесняйтесь, - говорит молодой врач скорой, похожий на тракториста. – Лучше десять раз зря, чем один лохануться.
- Вам нужно проверить нервы, - говорит врач детской неотложки, крепкая женщина средних лет в очках.
- Зоечке? – спрашивает Марина.
- Зачем Зоечке. У Зоечки все тьфу-тьфу с нервами. Вам, мамаша. И мужу вашему, - врач с легчайшим пренебрежением кивает в сторону Пальцева.
Зоя чихает.
- Будь здорова, - нестройным хором говорят врачи.
***- Виктор Эдуардович, хотите парадокс?
- Ну, давай.
- Вот Берлинская стена была географией, а стала историей.
Пальцев рассеянно кивает.
Сквозь не очень чистые окна в класс льется скат белого мартовского света. В свете играет мелкая школьная пыль. Пальцев проходит к окну и приоткрывает створку. Влажный воздух весны ударяет в ноздри.
***Отшумел поэтический вечер – и вот на столах появляется содержание фуршета. Многоголовое насекомое склоняется над ним – Пальцев подходит взглянуть на стебли укропа. Но – вот чудо! – стол почти не тронут. Тут оливье в волшебных маленьких тарталетках, небольшие бутерброды с семгой и колбасой, витки из ветчины с восхитительной начинкой и чего только еще не. На соседнем столе, расположенном перпендикулярно, громоздятся кувшины с соком. Пальцев не спеша, толково набирает себе тарелочку яств и наливает стакан виноградного. Зал тихо и интеллигентно шелестит по периметру, словно так и надо.
Вот и кончилась эпоха, с минимальной печалью констатирует Пальцев.
Так и есть. Ну, то есть впереди ощутимая подножка дефолта, суеверные страхи миллениума, но это частности.
Страна, кряхтя и матерясь вполголоса, поднимается с колен.
Глава 3. Жизнь как таковая.***1 сентября 2002 года Витя и Марина привели Зою в свою родную школу в первый раз, как говорится, в первый класс. Ну, впечатление было чуть смазано тем, что Зоя, конечно, уже бывала здесь эпизодически как на папиной и маминой работе. И все-таки, согласитесь, две большие разницы – погостить и прийти учиться.
Марина, долго и во все щеки расцеловав Зою, умчалась на свои уроки, а вот у Вити выдалось окно – и он стоял поодаль, словно и не учитель вовсе, а элементарный отец. Вид оробелой дочери с огромным букетом, встроенной в рядок таких же уникальных, единственных и бесконечно любимых, предсказуемо печалил и трогал. Из динамиков неслось «учат в школе, учат в школе, учат в школе», потом (немного не в струю) «когда уйдем со школьного двора» и всё такое.
Светило белое солнце, как будто не заметив, что кончился август. Витя умеренно некстати вспомнил, как они с одноклассником в теплый осенний день окунулись в канал.
- Что-нибудь знаете про школу? – озабоченно спросил у Вити усатый папаша в светлой шляпе.
«А где ты раньше был?» - подумал Витя, но вслух произнес:
- Я, знаете ли, преподаю в этой школе. Так что объективно судить не могу: конфликт интересов.
Усатый отец в шляпе понимающе кивнул и отодвинулся. Пальцев снова сфокусировал взгляд на Зое, чтобы в случае чего ее приободрить. Но Зоя увлеченно болтала с какой-то не по годам рослой девахой. Ну и слава Богу.
Пальцев, экстраполируя реальность, представил себя этаким стареющим наладчиком, который организует процесс в каких-то средне важных узлах и точках, а потом тихо отступает в тень, пока всё и так крутится и жужжит. Впрочем (учитель взглянул на часы) до этого было еще далеко.
В 12.20 здесь встретятся Витя, Марина и Зоя и пойдут домой, где Софья Казимировна будет их ждать с потрясающим праздничным обедом, а потом все вчетвером поедут в зоопарк. Витя Пальцев определил бы конструкцию дня как осторожное самодельное счастье.
Всё получилось, как было задумано, и Зоя от восторга долго не могла заснуть. Однако на следующее утро без единого хныка отправилась в школу. На сей раз и у Марины, и у Вити день начинался со второго урока, и они прекрасно выпили кофе в крохотном кафетерии в паре кварталов от школы. Расписание было разнообразно и прекрасно, как калейдоскоп. Небо оставалось синим, листва благородно желтела. Мария Александровна, естественно, попросила ребят принести на урок кленовый лист, Витя с Мариной и Зоей двадцать минут искали среди изумительно красивых листьев самый красивый – и все-таки нашли.
***Уже на излете осени, в ожидании снега, ремонт микроволновки занес Витю Пальцева по ту сторону железной дороги. Преодолев длиннющий и высоченный мост над Моссельмашем, географ попал в неизведанные заповедные места. Ну, то есть в Дегунино он, конечно, бывал, но не с этого краю. Витю растрогали мерзлый пруд, утки, церковка и прочие особенности ландшафта. На какой-то миг ему остро захотелось путешествовать – ну, допустим, не как Магеллану, а скромнее и ближе. Ведь если сразу за железной дорогой такие милые места, сколько впечатлений таит сам вагон. Почему бы не съездить в Питер с семьей.
Впрочем, Дегунино быстро растеряло свою избыточную приветливость. От него остались рожки да ножки грязноватые типовые корпуса и черные безлиственные деревья, словно нарисованные нерадивым дошкольником. Пальцев с особой ловкостью географа отыскал среди одинакового окружения ремонтное ателье и с облегчением сдал микроволновку. Он налегке вышел в морозный и сухой воздух ноября. Ему отчего-то захотелось пойти вон туда, по еле приметной диагонали между домами.
Витя прикинул, есть ли у него неотложные дела. Вроде бы их не было, но ведь это неточно. Может быть, Марина сейчас там зашивается без него, а он тут будет совершать променады по диагоналям. Тоже мне очарованный странник. И Витя, чуть вздохнув, отправился домой знакомой дорогой. Пройдя пару шагов, он зачем-то оглянулся на свою манящую диагональ, но она растворилась в Дегунине как таковом.
Дома оказалось, что неотложных дел нет, и Витя с большим удовольствием прочитал больничные стихи Кирсанова.
***В декабре Витя Пальцев собрался с духом и навестил мать. Оттягивая момент выхода из дому, он плотно поел, а теперь давился вторым обедом.
- Боже мой, ты еле ешь. Тебя там что, совсем не кормят, что ли? Ты вообще навык потерял.
- Мама, просто я сыт.
- Да, конечно. А почему ты Зоечку не привез?
- Ну, она ведь не плюшевый медведь, чтобы ее так вот возить взад-вперед. Сейчас будний день. Она делает уроки.
Мать махнула рукой, как будто услышала такую чушь, на которую и сказать нечего.
- Я тут умру, может быть, а она будет делать уроки.
- А ты себя плохо чувствуешь?
- А тебе какое дело?
- Да, - согласился Пальцев, с каким-то страстным удовлетворением фиксируя закипание мозгов, - пожалуй. Спасибо, я сыт.
- А что там твоя эта? Почему носа не показывает? Стесняется?
- Я даже не догадываюсь, о ком ты говоришь.
- А какие варианты?
- Давай закончим этот бессмысленный разговор, - Витя встал, отодвинув табуретку, и прошел в прихожую. Из кухни донесся плач его матери, переходящий в стон. Витя нацепил шарф, потом, тихо ругнувшись, все-таки прошел на кухню. Мать, маленькая и какая-то съежившаяся, плакала над столом. На плите стояла полная кастрюля того самого вкусного, чего Пальцев не сумел даже немного отъесть. Вите стало бесконечно жаль мать, ее стараний, этой кастрюли.
- Мама, - сказал он, садясь на табурет, - почему ты ведешь эту войну? Зачем?
- А почему вы не живете здесь? – спросила мать, всхлипывая. – Ты стал совсем чужой, Витя. Я не узнаю тебя.
- Вот потому и не живем, - ответил Витя Пальцев, думая параллельно, стоит ли говорить то, что он сейчас говорит. – Потому что меня ты не узнаешь, а Марину не уважаешь.
- А за что мне уважать эту дряхлую прошмандовку? – храбро спросила мать. – Она меня даже с восьмым марта не поздравила.
- Знаешь, я, наверно, пойду.
- Иди, иди, иуда.
Витя прошел в прихожую и довольно долго искал шарф, прежде чем обнаружил его у себя на шее. Но когда он перешел к куртке, из кухни донесся легкий стон. Витя вбежал туда и увидел мать, слегка завалившуюся набок.
Потом он вызвал скорую, и они дожидались ее молча.
Потом врач скорой вколол матери укол и посоветовал не волноваться.
Потом Витя ехал домой одну станцию на метро и два куска пешком.
- Как мама? – спросила Марина. – Передал от меня привет?
- Мама сложно, - ответил Витя Пальцев. – Даже не знаю, как тебе сказать.
- Ну ладно. Будешь ужинать?
- Если только немного.
***Борис Ежов окрестился, отрастил бороду, сбрил бороду и начал писать если не лучше, то ощутимо иначе. Параллельно в Москве сменялись времена года – и вот наступила весна. Ну, то есть настоящая весна с повсеместным таянием, отражением города в лужах, щебетом, взрывом почек и прочей колготней из начальной школы. Кроме того, в городе проявились, как бы вылезли из-под снега бесчисленные постройки новейшего времени.
- И как тебе это всё? – спросил Борис, обводя рукой небоскребы среднего роста, возвышавшиеся над рядом близстоящих домов.
Витя Пальцев помедлил с ответом. Конечно, он знал, что как интеллигенту и либералу, да вдобавок коренному москвичу ему не может нравиться это всё, но ему нравилось это всё. Причем нравилось, если можно так сказать, трижды: и очертаниями, и самим фактом наличия – как муравью муравейник, - и по энергетике, по легкому безумию мегаполиса.
- Меня, как ни странно, устраивает, - дипломатично ответил Витя.
- Да, нормально, - неожиданно и вяло согласился Боря Ежов. – Пойдем к реке?
И товарищи по призрачному цеху пошли к реке.
- Я тут вот что подумал, - начал Борис обстоятельно и издалека, - такая тема, как теперь говорят… - он помолчал, возможно, ожидая от Вити Пальцева легкого понукания, но не дождался: Витю стопроцентно устраивал молчаливый ландшафт плюс горьковатый воздух весны. – В общем, надо жить.
- А что, были альтернативные варианты?
- Да нет. Просто я не мастер говорить. Ну, например, при советской власти система в сильной степени жила за нас. Вуз, распределение, туда-сюда, пенсия.
- У тебя прямо так мгновенно, как сон.
- Ну, долгий тяжелый… такой косматый сон. Такой… заплыв в очень соленой воде, так что не утонуть, и никого не обогнать, потому что тесно. Так, барахтаешься для виду и плывешь. Или не барахтаешься и всё равно плывешь.
- Ну, допустим, - с сомнением одобрил Витя ретроспекцию Бориса Ежова.
- Не допустим, - возразил Ежов назидательно, - а так и было. Просто мы все были молодые – ты отдельно, я отдельно, со своими компаниями. Дурачились, дружили, влюблялись. Делали много необязательного. Но это… как бы самодеятельность на пароходе, а он идет себе и идет.
- Что-то тебя тянет на водные метафоры.
- Так, - и Боря произвел широкий обводящий жест правой рукой.
Товарищи спустились к Москва-реке в районе Пресни. С того берега подбоченилась гостиница «Украина». Как бы овеществляя красоты речи Бориса, по воде слева направо спешил небольшой пароходик, не экскурсионный, а типа деловой.
- Потом были девяностые, - продолжил Боря свою тягучую мысль. – Вопрос выживания. Ну, сохранения каких-то констант.
- С какой-то точки зрения, - осторожно оспорил Витя историческую модель Ежова, - кто-то как раз в девяностые зажил на полную катушку.
- Ну, не мы же.
- Так, может, это наша ошибка, и нечего кивать на эпохи? Насчет коммунистов я с тобой соглашусь, время не располагало к…
- …жизнетворчеству.
- Жизнетворчеству. Прелестно! Но в девяностые был расцвет этого самого… жизнетворчества.
- С душком, Витя. Под девизом «дай-ка я тебя на.бу».
- Смотри, мне дико хочется с тобой согласиться. Но не получится ли это манифест неудачников?
Друзья-поэты стояли между тем на набережной, точнее – на той ее части, которая через оградку граничила непосредственно с рекой, с водой. Вода была серо-зеленой и мятой, как бумага. Слова Пальцева заставили всерьез задуматься Борю Ежова. Было видно, как он гасит гордость и напрягает научную честность. Мимо собеседников проехал жизнерадостный дед в синих шортах на красном велосипеде.
- Не знаю, - обескураженно сказал Боря наконец. – Может быть. Это ведь как расставить акценты. Вот мы с тобой учились раздельно, но в одно и то же время. Ну, примерно. Вспомни: люди на курсе делились на тех, кто шел в комитет комсомола, и кому было брезгливо.
Витя вспомнил и кивнул без поправок.
- И эту брезгливость мы с тобой полагаем достоинством. То есть мы не сетуем сейчас, что, типа, надо было зажать нос и все-таки сунуться в комитет комсомола.
- Да, - просто согласился Витя. – Эта брезгливость и есть мы. Ну, часть нас. И мы ее…
- …лелеем.
И снова Вите понравилось слово, нащупанное Борей Ежовым. И в последних стихах у него что-то заворочалось.
- А теперь загляни в телевизор, - гостеприимно продолжил Борис Ежов, как если бы на парапете набережной стоял телевизор. – Цепные псы режима, и борцы с режимом, и борцы с борцами – это всё те, кому было небрезгливо.
- А богатые?
- Наполовину оттуда же. А наполовину – фарцовщики, которые своим же однокурсникам впаривали джинсы по двести рублей.
Витя никогда не видел живого фарцовщика, но слышал о них и даже читал.
- Отлично, Боря. То есть мораль басни в том, что мы и нам подобные пробрезговали тем и сем, намереваясь продремать до пенсии, а потом нас пнули в бок локтем, и мы очухались от липкого сна в каком-то гадюшнике, а потом пока искали куртку и сумку, чистили зубы и выбирались, снаружи кто-то в кого-то стрелял, а потом мы выскочили на улицу – а там относительно спокойно, и надо что-то делать.
- Да, - сказал Боря Ежов уныло и без поправок. Таким образом, Витя был приведен к необходимости либо согласиться с коллегой, либо поспорить с самим собой. Он посмотрел в небеса, как будто там могла быть подсказка. Подсказки не было. Вообще ничего не было, кроме яростной и тотальной синевы.
- Давай зайдем с другой стороны, - попробовал Витя зайти с другой стороны. – Вот я муж, отец, учитель географии… и не только, вдобавок к этому пишу стихи. И вот… 6 апреля 2003 года я от некоторого вестника узнаю, что пора начинать жить. И что конкретно мне делать?
Ежов засмеялся, как если бы Витя сказал что-то смешное, а потом внезапно отсмеялся и погрустнел.
- Откуда я знаю? – спросил он и повторил: - Откуда я знаю?
***В мае Витю вызвали к директору школы. Бояться ему было нечего. За прошедшую вечность он заматерел, оставаясь, впрочем, самым юным мужчиной из педсостава, поскольку, знаете ли, физрук, военрук и трудовик тоже не молодели. А Гоша двигался параллельным курсом в Канаде – хотя и он был старше Вити на пару месяцев.
Витя Пальцев постучал и вошел. Директриса сидела, как императрица, не хватало только завуча за спиной.
- А, Виктор Эдуардович? Про ваши дела не спрашиваю, знаю, что всё в порядке. Мы вчера чудесно поболтали с вашей супругой, и дочка у вас замечательная.
- Да, дочка… услада отца.
- У нас такие дела, - с легким вздохом перешла директриса к делам. – Галина Спиридоновна на больничном и, вероятно, уже не выйдет с него.
- А что? – искренне поинтересовался Пальцев, никогда не желавший зла завучу, полагая ее бестолковой, но, в сущности, безобидной теткой. – Что-то серьезное?
Директриса поморщилась, как от несильной зубной боли.
- Да ничего яркого, зато букетом. Вы представляете себе, сколько ей лет? Да и мне за компанию.
Витя честно мотнул головой. Директор и завуч в его сознании были лишены возраста за ненадобностью.
- Во-от. Встает вопрос завуча с сентября. Тут-то мы дотянем.
- А почему вы со мной обсуждаете вопрос завуча? – спросил Витя, слегка похолодев вдоль хребта и спинным мозгом уже обо всем догадываясь.
Директриса вздохнула и промолчала.
- Но у меня никакого опыта…
- Ну, все когда-то начинают. И Галина Спиридоновна, знаете ли, не родилась завучем.
Витя зачем-то попробовал представить себе Галину Спиридоновну до того, как та стала завучем, - и не сумел. Между тем, доводы против уже накопились у него в гортани, и Витя открыл рот, чтобы их обнародовать. Но директриса упреждающе подняла ладонь.
- Да что ж вы всё время отказываетесь, как гимназистка? – спросила она с горечью и досадой. – Учитывая вашу теперешнюю слоновью нагрузку, чистого времени у вас будет уходить меньше, а денег получится чуть-чуть, но больше. Обсудите это всё с Мариной Геннадьевной… с бабушками. С товарищами – у вас ведь должны быть товарищи. Из вас получится хороший завуч. Трепетный. Не спешите. Даю вам неделю сроку, не меньше. И вы меня очень разочаруете отказом. Очень. Не подумайте только, что я на вас давлю. Я на вас не давлю.
Выйдя из кабинета директора, Витя попробовал принять позу завуча – выпрямил спину и окинул окрестности царственным взором. Тут же ему стало стыдно и жаль Галину Спиридоновну, и он вернулся в шкурку учителя географии.
Дома он, согласно завету директрисы, обсудил тему с Мариной и Софьей Казимировной, но в чисто юмористическом ключе: вот ведь какие нелепые идеи приходят в свободные умы. Марина поддержала шутливый тон, а вот простодушная Софья Казимировна спросила про нагрузку и деньги, а потом сказала:
- Соглашайся, Витя. Тебя ведь школьники любят, учителя уважают… ну, и наоборот, разумеется. И не так скучно будет, а то долдонишь одно и то же. Твои первые ученики только что не деды и бабки, наверно, всюду проросли…
- Бандиты, олигархи, депутаты, - усмехнулся Пальцев.
- Ну, Витя. А ты всё про Килиманджаро.
- А вы знаете столицу Мадагаскара, Софья Казимировна?
- Да Антананариву. Мне первый жених оттуда сувенир привез. Но он не сохранился.
- Я извиняюсь, жених или сувенир?
- Оба, Витя. А ты подумай всерьез.
Уже под одеялом Марина спросила шепотом:
- Думаешь всерьез?
- Честно? Не слишком. Понимаешь… пока я учитель, я только в классе учитель, а остальное время…
- Поэт?
- Ну… зачем так сразу? Не то чтобы… но – если призовут. А завуч – я боюсь, что завучем буду уже с концами. Забью частоту.
- Тебе ж Надежда сказала, что по времени получится даже меньше.
- Дело в очерченности. Я боюсь, буду только в автобус входить – а я уже завуч.
- А так, Витя, кто ты в автобусе?
- Человек.
- Ну, хорошо.
***Вите исполнилось 37. Он выслушал ряд однотипных и плоских рассуждений с оттенком юмора насчет Пушкина, Маяковского и иже с ними. Помимо кривых улыбок, рассуждения вызвали в не таком молодом уже поэте что-то вроде метафизической изжоги. Он, заранее борясь с отвращением, вдумчиво перечитал свои стихи, заранее сведенные в одну папку на персональном компьютере. Стихи по невозмутимым законам информатики занимали ничтожную часть жесткого диска. Впрочем, здесь не таилось упрека поэту в малописании. Будь наследие В.Э.Пальцева в 100 раз больше, его доля среди остального информационного мусора оставалась бы так же прискорбно мала.
Витя был готов удалить все 67 стихотворений и уже мстительно косился на клавишу DELETE, но стихи абсолютно неожиданно ему понравились – как не свои, некоторые он даже насилу вспомнил. Удалил творец всего пару громоздких ублюдков. Теперь отвращение Пальцева перешло на него самого: он влился в жизнерадостную армию поэтов, которым нравятся их собственные стихи.
К октябрю намечался какой-то грандиозный фестиваль на борту теплохода. Витя слышал о нем отовсюду: от Ивана Валежина, однажды все-таки взявшего билет в один конец на электричку и перебравшегося из Раменского в Москву; от неунывающего Жени Волховского; от поседевшего Бори Ежова; от большеглазой и длинноногой Карины Михальской. Внутри Вити зародилась и изрядно набухла обида: всех позвали, а его – нет. «Ну и ладно», - то ли обида шептала Вите, то ли Витя обиде. Нас и здесь неплохо кормят. И далее в том же духе.
В конце августа зазвенел телефон, и ангельский девичий голос уточнил, действительно ли он имеет дело с Виктором Эдуардовичем. А потом голос со всей вежливостью и даже с почтением пригласил Витю на теплоходный фестиваль – на первую неделю, или на вторую неделю, или на обе – как ему, В.Э., заблагорассудится. Сказка стала былью. Витя, до сих пор стоявший на метафизическом утесе и провожавший глазами белый теплоход, живо представил себя в реальной шаткой каюте на паях с очередным, извините, поэтом; представил, – возможно, даже с избытком - разгул алкоголизма и случайные связи в разнообразных укромных местах плавучего средства; представил обилие плохих стихов, выпадавших из нетрезвых ртов. Витя отказался с поспешным ужасом. И уже отсюда, из понимания этого путешествия как выездной сессии ада, Витя с изумлением оглянулся на свою взлелеянную обиду.
«
Как часто, - записал он, чтобы не забыть и не вляпаться вторично в ту же историю, -
мы завидуем тому, что нам вовсе не нужно. Закрытая вечеринка привлекает своей закрытостью, и нам льстит нахождение в списке. А само мероприятие скучно, в помещениях душно, темно и накурено, шампанское кисло. Тщеславие в чистом виде…»
Ну – и дальше в том же духе.
Прозрение Вити Пальцева, отформатированное под колонку, вышло в одной московской газете, в отделе, который курировал Женя Волховский. Некоторые положения вызвали оживленную дискуссию в узком кругу, особенно – насчет того, что шампанское кисло. Вите достался гонорар, эквивалентный 5 урокам.
Между тем, по Москве рыскали несколько (от 5 до 6) издателей поэзии. Они находили авторов, полагаясь исключительно на собственный вкус, потом, опираясь на него же, с придирчивой любовью выкладывали книжку, потом кратко теребили своих обеспеченных приятелей,
поднявшихся на том или ином в легендарные 90-е, – и проект становился реальностью: глянцевыми страницами, стильной обложкой, буковками и всем таким, тираж оседал у автора и издателя – и, собственно, всё. Пока дела обстояли так, и поэтам, и издателям смутно хотелось большего, а когда стали обстоять хуже, все затосковали по времени, когда они обстояли так.
То ли 37-летие Вити, то ли его нравоучительная колонка привлекли внимание одного издателя, он по гамбургскому счету сократил контент книги с 65 до 61 стихотворения – и издал. Так получилось, что презентация практически пришлась на 40-летие Марины. А называлась книга Вити «Водоемы большого города».
Само 40-летие не отмечали, разве что посетили театр им. Пушкина, а в антракте – буфет. Витя принес кофеек и бутерброды и загляделся на лицо своей жены.
- Что, морщинки? – с улыбкой спросила Марина.
- Нет, - честно ответил Витя. – Более того, они были в уголках глаз – такие небольшие, умные, очень тебе шли. А теперь куда-то делись.
- Это не они делись, - сказала Марина. – Это у тебя зрение портится. У учителя рано или поздно портится зрение и слух – от этого визга на переменах.
- Что еще портится, помимо зрения? – переспросил Витя.
- Слух.
***Витя Пальцев открыл глаза и увидел потолок. Знакомый белый потолок с еле видным узором трещин. Ну, потолок. Пора было переходить к остальному, но что-то мешало.
Витя встал. Комната качнулась. Всё вокруг было стерильно и дистилированно. Витя поколебался на краю и впустил в мозг то тревожное, что мешало.
Не было Марины и Зои. Не было вещей Марины и Зои. Вообще, о них не осталось вещественной памяти, как будто они были только смутными мыслями Вити Пальцева – мечтами, представлениями.
Витя вспомнил, что обидел Марину. Как-то нелепо, бессмысленно и навсегда. То есть (слава Богу) где-то есть Марина и Зоя, но для Вити их всё равно, что нет.
Надо учиться жить одному. То есть без них, то есть без жизни. Переходить к полому существованию. Витя встал и прошел в соседнюю комнату. Это новая жизнь – переход из комнаты в комнату.
Комнаты были полые и безликие, как жизнь. Витя прошел в следующую комнату. Здесь проступила какая-то ошибка.
Ну да. Комнат ведь было две. И Софья Казимировна – ей ведь заведомо было некуда идти. Витя еще миг стоял в разоблаченной замороченной квартире – потом всё бесшумно обрушилось, и он открыл глаза.
Зоя что-то ныла на кухне, Софья Казимировна рассудительно ей возражала. Марина в ночной рубашке застыла у темного окна.
- Крупный снег, - сказала она. – Хлопья.
- Марина, обещай, что ты не бросишь меня.
- Надо же, какой пафос с утра.
- Обещай.
- Куда я денусь.
***Учителя и школьники отдыхают летом. Витя с Мариной и Зоей продегустировали Подмосковье, Сочи, даже – осторожно и одноразово – Грецию с Турцией, и как-то остановились на Крымском берегу, более того – в одном и том же местечке, у одного и того же хозяина. Стабильность, помимо прочего, обеспечивала кое-какие скидки, но Витю привлекала стабильность как таковая.
Раскаленный поезд против всякой логики мчал три тела на юг, там работали яростное солнце и подсоленная вода – и вот время становилось ощутимым, тягучим, волокнистым, и в черепе, как в полупустой комнате, было просторно и тихо.
Они брали чебуреки на одном и том же углу, у того же парня с неизменной улыбкой под усами. У сдобной бабы на рынке – творог, у старика в широкой кепке-аэродроме – зелень. Одно лето к Пальцевым присоединилась Софья Казимировна, и получилась вообще выездная Москва, другое – Аленка, Римма и Ксюша, и Витя почувствовал себя немножко султаном. Но в основном они ездили туда втроем.
Завтракали в кафе по дороге к пляжу, и Витя всегда счищал со своей четвертинки пару кусков ветчины Зое, потому что Зоя очень любила ветчину на пицце. И вот, в очередной раз счистив ей пару кусочков, Витя напоролся на басовитое и укоризненное
- Ну, пап!
Витя Пальцев, будто раскрыв глаза, взглянул на Зою. На ее месте сидела высокая мускулистая девушка. Марина рядом с ней была как воробышек. Витя проследил глазами за Зоиным мимолетным взглядом – и увидел через пару столиков двух… нет, не парней, а молодых мужиков, если вы понимаете разницу. Согласно Витиной интуитивной классификации, молодые мужики принадлежали к его миру, а не к миру его дочери. Однако мозг произвел перерасчет и нашел грубые ошибки в распределении возрастных категорий.
Витя растерянно взглянул на Марину – та смотрела на него иронично. Ну что ж.
Доели и пошли на пляж.
Ну, а потом Крым стал наш, то есть транспортно неудобен, Зоя выросла окончательно и отдыхала в других компаниях, а Витя с Мариной переключились на случайные оказии.
***Вите казалось, что он знал Женю Волховского всегда, но если покопаться в памяти, их познакомил несколько эпох назад Гриша Чудинов. И вот Гриша всплыл из таинственных глубин соцсетей и вздумал встретиться с Витей. Витя заколебался.
В его понимании Гриша исчез уйму лет назад. Он был вроде отсохшей чешуйки, на месте которой успело засохнуть и отсохнуть еще сколько-то чешуек. При этом никаких обид, потому что Витя Пальцев полагал этот процесс взаимным. Его совершенно устраивало то, что он у многих отсох; в этом ему виделась гигиена большого города. Но если так, то зачем видеться? Допуская, что он чего-то не понимает, Витя проконсультировался с Зоей.
- Прикольно, - сказала Зоя.
Витя повел плечом: это слово ничего ему не говорило.
- Понимаешь, - попробовала дочь пояснить свои соображения отсталому отцу, - дело не в этом престарелом дяденьке. Дело в тебе. Тебе надо будет в сжатом виде и бодро объяснить, как ты провел последние тридцать лет. Чтобы этот твой допотопный друг не помер со скуки.
- А что будет, если он помрет со скуки? – ворчливо спросил Витя.
- Придется ждать полицию, составлять протокол, прочая пурга. Вечер будет скомкан.
- Так, может, лучше и не ходить? Давай я тебе быстро и бодро расскажу, как провел последние тридцать лет.
- Начинай.
- Что, прямо здесь?
- А где?
- Хорошо, хорошо! – Витя поднял руки, но в подробности последних тридцати лет не углубился.
Наилучшей формой отказа было вообще не отвечать на запрос, и Витя так и поступил. Но отказ получился не акцентированный, мир не смог отличить его от колебательного процесса. Витя же почувствовал что-то вроде легчайшей горечи сожаления, типа: что ж это я во всем себе отказываю? Вот уже и дочь выросла до упора, и жизненные циклы устоялись, и вечер свободен. Неужели я не имею права поболтать в кафе с Гришей Чудиновым?! Переведенный в правовую плоскость, вопрос решился мгновенно и однозначно, – безусловно, имеешь. Бывшие приятели договорились на пять вечера в четверг в кафе.
Витя, по своей привычке, подошел без пяти и огляделся. Это была уютная сетевая кофейня, каких в Москве сотни. Вите понравился контингент – милые неагрессивные люди всевозможных полов и возрастов с какими-то трогательными занятиями: улыбчивым негромким общением, сосредоточенной работой на ноутбуке, нежадной дегустацией необязательных вкусных вещей. Витя Пальцев промониторил лица на предмет того, мог ли кто-нибудь тут сойти за Гришу Чудинова тридцать лет спустя. Подходящий возраст был только у двух ветеранов кофейни, но один из них оказался женщиной, а второй – ниже Гриши ориентировочно на голову. Витя умеренно кстати вспомнил проблему узнавания в мире теней. Ну, успокоил он себя, на то и мобильник. Набираешь номер и следишь, какая тень залезает в карман.
- Витек!
Пальцев встрепенулся и заметил перед собой Гришу, который предпочел совсем не измениться за последние тридцать лет. Гриша шумно расселся, приткнув куда надо плащ, шляпу, зонт и портфель. Товарищи обменялись крепким рукопожатием, потом, улыбаясь, пару секунд просто поизучали друг друга. Витя слегка изменил формулировку: этот Гриша выглядел в свои 50 на 40, но всё ж не на 20. Он как-то налился, определился, настоялся. Глаза оставались молодыми, но излучали ту особую равномерную уверенность, которой не бывает у совсем молодых.
- Прекрасно выглядишь, - изрек Гриша. – Не то чтобы совсем не состарился, но состарился благородно.
- Алаверды, - искренне ответил Витя. – А ты не состарился вообще, но тоже благородно.
- Да, я знаю, - просто ответил Гриша Чудинов, - выгляжу хорошо. Мне докладывали. Ну, Виктуар, как провел последние тридцать лет?
- Плавно, - сказал Витя, отчасти подготовившись к вопросу. – Как сказали одному моему знакомому на автомойке, обошлось без инцестов. Жена, дочь… книжка.
- Книжку читал. Опрокинут. Поразительно, что кто-то из нас это написал. Вроде скакали себе, как зайчики, - и вот тебе на.
- Спасибо, Гриша. Ну, я, как ты понимаешь, быстро отскакался…
- Готовы заказать? – спросил официант с полотенцем через руку. Товарищи сделали адекватные заказы – официант повторил их и сгинул.
- А ты? – спросил Витя, улыбаясь.
- А, переход подачи? Ну… как ты помнишь, при коммунистах я изучал политэкономию, но потом как-то сообразил, что здоровее отдельно. Понимаешь, молот отдельно, серп отдельно – сразу появляется какая-то функциональность. В общем, написал миллион запросов, получил два ответа. Изучал политологию в Йеле, а экономику в Гарварде. Потом был экономическим советником у одного азиатского диктатора… ну, не буквально живодера, у такого авторитарного типа, через (Гриша взглянул на часы) три года скажу тебе, у кого, пока не могу. Читал цикл лекций в Интерполе. Издал три книги на английском, но узкоспециальные, тебе неинтересно. Был женат на двух манекенщицах, но последовательно. Жил восемь лет в Сан-Франциско, потом двенадцать в Женеве. В итоге предпочел Москву. Знаешь, очень динамичный город. Консультировал кандидатов в президенты, но не здесь. Взял интервью у далай-ламы. Два. Основал два благотворительных фонда. Кстати, если тебе понадобятся деньги на какое-нибудь романтическое дело…
Витя улыбнулся и поморщился.
- Узнаю старую школу! У нас всё есть. В общем, я так и не научился отказывать. А ты?
Витя подумал для порядка.
- Я? Вполне. Могу и тебя обучить.
***В очередном апреле Витя получил имейл с неизвестного адреса. Не без легкого сомнения он открыл письмо и прочитал:
«
Здравствуйте, Виктор. Меня зовут Майя, а Ваш электронный адрес мне дала Карина Михальская. Я слышала Ваши стихи на вечере в Даче. Мне очень понравилось, как будто Вы писали их мне или про меня. Потом я нашла Ваши стихи в Интернете – и вот не могу не написать. Мне кажется, Вы должны верить в любовь, иначе все Ваши стихи – небывалый, чудовищный обман. В любовь – в смысле в изначальную предрасположенность одного человека другому. Если Вы понимаете, о чем я говорю, ответьте на это письмо. Если нет, то не утруждайтесь.М.»В детстве Вити Пальцева бытовало такое издание «Робинзона Крузо», где на соответствующей странице была иллюстрация: след босой ноги на песке, а над ним – сам Робинзон в своем карикатурном прикиде в крайней степени ужаса. И подпись:
Я остановился, как громом пораженный.Вот и Витя остановился, как громом пораженный. Первым его побуждением было немедленно стереть письмо и попробовать жить, как будто его и не было. Но так как у Марины, Зои и Софьи Казимировны не было привычки читать чужие письма, порыв был посчитан преждевременным. Витя попробовал заглянуть глубже и найти собственную ошибку – как он мог позволить провести такую атаку на свою семью.
Его стихи предполагали известную откровенность, но они крайне редко затрагивали тему любви между мальчиком и девочкой (не говоря уже о новомодных модификациях). Чаще стихи Вити Пальцева елозили между чрезвычайно конкретными деталями и совсем вообще. То есть навряд ли они тематически могли возбудить страсть в нормальном человеке. Оставался скользкий, спорный и лестный для автора вопрос качества. Может ли возбуждать качество текста как таковое? Подумав так и сяк, Пальцев оставил вопрос открытым.
С точки зрения технической гигиены… почему эта ведьма Карина дает его имейл кому ни попадя? Ну… так принято. Откуда сама Карина его знает? Не без горечи Витя признал, что и сам может за 5-6 минут выяснить имейл практически кого угодно. Издержки эпохи.
В итоге тягучих мучительных сомнений в каждом буквально слове Витя породил ответное письмо:
«
Уважаемая Майя!Во-первых, огромная Вам благодарность за сочувствие к моим стихам: для автора нет награды дороже, и я этим сочувствием не избалован.Во-вторых, хотя я и не пишу о любви, Вы чрезвычайно точно угадали насчет веры в предрасположенность. Моя уже сбылась двадцать лет назад. Я проживаю собственную жизнь с любимым человеком и не имею в этом плане никаких сомнений.Я горячо желаю Вам встретить свою половинку и вообще попасть в свою судьбу, как в перчатку.Еще раз спасибо Вам!Всего самого светлого, В.»Несколько дней после этого инцидента Пальцев открывал свой почтовый ящик с осторожностью сапера, но больше писем от Майи он не получал. Да и вообще подобных писем не получал.
Его голова поседела, на носу укрепились очки, плечи ссутулились, шаги сделались короче и осторожнее. То есть природа привела его внешность в соответствие с его взглядами, за что ей (природе) отдельная благодарность.
***Непонятно, кто бы это мог заговорить про вторую книгу Пальцева, но кто бы это ни был, он не попал в ситуацию. На книгу не было ни материала, ни запроса, ни издателя. Витя с раздражением отметил твердость отсутствия своей второй книги. Но… как это могло случиться? ведь со времени первой минуло уже 15 лет, а стихи же он писал! Витя исследовал структуру собственного рабочего стола.
Оказалось, что его стихи покоятся в неглубоких могилках разнообразных папок, из которых одна озаглавлена «ИМЕЮЩЕЕ СМЫСЛ». В ней на данный момент располагалось 11 относительно свежих стихотворений. Витя устроил генеральную уборку стола, все второстепенные папки ликвидировал, из них в совокупности 3 стихотворения, сомневаясь, всё же перенес в ИМЕЮЩЕЕ СМЫСЛ, но оттуда удалил 4. Вот так – а вы говорите «вторая книга». Где? с чего??
Между тем, Витя был зван на презентацию восьмой книги Бори Ежова, и даже высказался о ней устно и электронно со сдержанным восхищением. Витя не мог понять – то ли он пишет хуже Бори, да и Жени с Кариной, да и еще дюжины чуть старше или моложе; то ли он просто требовательнее к себе, чем это принято в стае. А если даже требовательнее – стоит ли бороться с этой требовательностью, или здоровее ее… как там?
лелеять. Да, точно, лелеять.
Однако человеческая мысль игрива и прыгуча, и вот уже Витя Пальцев, не переставая думать о своей злосчастной второй книге, думал не именно о ней. Он вдруг увидел и удивился, как много в его жизни похоже на эту самую
вторую книгу – то есть твердо не состоялось ввиду отсутствия повода, сильного желания, мотивации – да всего. Объяснять такое отсутствие – то же самое, что объяснять неучастие в духовом оркестре РЭУ. А вот, поди ж ты, слегка саднит и нарывает, что там ни говори…
***У них не было дачи, но у дальней родственницы Марины, кого-то вроде двоюродной тети, была не нужная ей дача. Сама двоюродная тетя мирно доживала свой век в Люблино и не имела ничего против того, чтобы Марина любительски хозяйствовала на участке и в доме. Марина настолько втянулась в деревенский быт, что всячески освобождалась от июньской нагрузки, а при малейшем давлении со стороны директрисы грозилась уйти на пенсию. Тут все вспоминали, что Марине (при всей ее моложавости) уже 55, и шутки с ней чреваты.
Марина организовала клумбу из настурций и левкоев чуть ли не с фонтаном, реанимировала полудикий сад, выращивала изумительную зелень и собственную картошку. Правда, дача выдалась неблизко от Москвы, и ездить туда-сюда было неудобно. Дача предполагала фундаментальные гостевания, такого дворянского типа.
Зоя пропадала не поймешь где, Софья Казимировна, наоборот, практически не выходила из дома, Марина зависала на границе области – вот вам и диспозиция лета. А что же Витя, спросите вы, между дачей и дачей. А Витя полюбил в одиночестве бродить по Москве.
Он предпочитал промзоны, лесопосадки, брошенные железные дороги, пасмурные окраинные пруды, побережья малых почти безымянных рек, рукотворные лестницы и мостики, ведущие из одного маргинального места в другое. Кого встречал пожилой географ в этих экспедициях? Да практически никого. Застенчивые собачьи стаи, молчаливых мигрантов, вблизи жилых кварталов – молодых мамаш с колясками, компании с шашлыками. Что думали аборигены про храбро шагающего в неочевидном направлении худого и всклокоченного дядю? Витю Пальцева это не интересовало, да и нас с вами, наверное, тоже не должно.
Он поднимался на очередной холм, благо сердце и ноги пока ему позволяли взобраться на холм, и окидывал взглядом окрестности – не пойми чего вблизи и несомненную Москву ближе к горизонту. Точнее, горизонт – это и была Москва, ее неповторимая ломаная линия.
Всё, что было и будет.
***Не раз и не два Витя обнаруживал у себя дома наряду с Зоей молодую особь мужского пола. Невольно вслушиваясь в оттенки и обертона, внимательный отец различал лишь интонации ворчливой андрогинной дружбы – различал с облегчением, но и с минимальной досадой. Покопавшись в себе, Пальцев диагностировал дегенеративную природу облегчения: какая-то рудиментарная часть его многогранного «я» продолжала тупо надеяться на то, что Зоя навсегда останется маленьким ребенком с бантом на макушке. Ампутировав если не всю эту часть, то ее мнение о происходящем, заслуженный учитель сосредоточился на досаде.
Естественно, он мечтал о внуках – может быть, не так откровенно, как Марина, но если он и оставался кем-то молодым, то исключительно молодым потенциальным дедом. Способным еще подежурить на детской площадке или затащить коляску в автобус. Это понятно.
Но из глубин своего мутного подсознания Виктор Эдуардович выудил вдобавок непосредственную тоску по зятю. Ну, его (подсознание) можно понять.
Ведь у Вити не было сына. И, тем самым, зятю он передал бы герб и наследство бесценный опыт. Какой именно? Куцый мужской? Гигантский учительский? Резко индивидуальный стихотворный? Нередкий в России опыт гражданского аутизма, в Витином случае распространенный на значительную часть мироздания? Наверное, его. Идущий из брезгливой молодости опыт неучастия, нехождения на многочисленные собрания нечестивых, любительские шабаши, фестивали тщеславия и прочие презентации с фуршетами.
Быть, короче говоря, или не быть? Конечно же, не быть, не состоять, не участвовать.
Не раз и не два, гуляя своими потаенными тропами по летней скрытой Москве, Витя Пальцев вел молчаливые беседы с воображаемым зятем. И тот, знаете ли, его понимал – подчас как никто другой.
***На очередном фуршете после сводного поэтического вечера за столик к Жене Волховскому и Боре Ежову подсела всё еще очаровательная Карина Михальская.
- Свободно у патриархов? – спросила она игриво.
- Свободно-то свободно, - отозвался Женя Волховский, - а тебе не рановато?
- Сегодня рано, завтра поздно, - на автомате ответила Карина, протискиваясь между тем к стене. – Женя, сдвинься чуть-чуть, а то лысина фонит прямо в глаза.
Боря захихикал, как школьник, потому что его благородная седина хотя бы не фонила в глаза. Женя криво улыбнулся и хмыкнул, а потом отлучился на минуту и вернулся с полной тарелкой разносолов.
- Хорошие поэты, - одобрительно сказал он, - вложились. А то бывает, понимаешь, молодняк, накрошат печенье, порвут мандарины дольками…
В таком роде обсудив литературу и жизнь, товарищи затронули еще пару второстепенных тем и как-то слева вырулили на Витю Пальцева.
- Что-то давно его не видно, - озабоченно сказала Карина Михальская. – Он жив вообще?
- Жив-то жив, - успокоил ее Ежов. – Если бы что, мы бы узнали. Затворничает.
- Может, пишет что-то большое?
- Может, и пишет. Какой смысл гадать?
- А, может, - задумчиво спросила Карина, откинувшись на спинку стула и положив одну стройную ногу на другую, - ему с нами неинтересно?
- Его можно понять, - философски отреагировал Ежов. – Мне иногда самому с собой неинтересно.
- Да ладно, - сказал Женя. – Можно подумать, Витя Пальцев ведет такую уж интенсивную духовную жизнь. Долбит этим тунеядцам химию…
- Не географию?
- Ну, географию. Ходит за кефиром. Был бы повод гордиться. Пишем-то мы все неплохо.
- Тут дело в другом, - без раздражения сказал Борис. – Он просто играет на вычитание.
- А смысл?
Борис Ежов пожал плечами.
- Смысл любой игры в победе, - назидательно сказал он и поднял указательный палец. – Кто выиграл, тот и прав.
***Витя поднялся и постучал вилкой по фужеру. Люди замолкли и повернулись к нему.
- Так получилось, - начал Витя, - что Софья Казимировна практически никем мне не приходилась. То есть если раскручивать, кем она мне приходилась… это будет юмористическая подробность. Но она – извини, Алена, - была мне как мать. Даже, честно говоря… Знаете, с мамой мы часто ссорились; слава Богу, как-то в конце договорились… до чего-то. А Софья Казимировна – не то чтобы ничего от меня не хотела или не добивалась, нет, ей было совсем не всё равно, но она говорила об этом очень просто и прямо и никогда не настаивала. Но если я и менял что-то – в целях, в привычках, то, наверное, благодаря ей. Уж не говоря о том, что она делала для нас и для Зои – Зоечка, ты и не помнишь всего. Теперь ее нет, - у Вити потекло из-под очков, он извинился, нашел платок, снял очки – платок, очки и фужер были в его руках как реквизит клоуна, изображающего жонглера. Потом Витя выпил – так все поняли, что тост состоялся, и тоже выпили, не чокаясь. Витя примостил очки на носу, но течь не переставало – и он, извинившись, вышел в ванную. Ему было неудобно, что он тут, видите ли, плачет больше других.
В ванной было как обычно, как раньше. Витя решил посмотреть, на месте ли зубная щетка Софьи Казимировны, или Марина успела ее удалить, но потом понял, что оба варианта одинаково печальны. Закрыл дверь на задвижку, присел на край ванной и, поскольку его никто не видел, снял очки, дал себе волю и расплакался - некрасиво, по-бабьи, обхватив ладонями виски и слегка качаясь из стороны в сторону. Потом продышался, высморкался, яростно умылся холодной водой, насухо вытер лицо, надел очки поровнее и вышел к гостям.
***Еще не настало лето, за окнами стоял ветреный пасмурный апрель, не кончились занятия в школе, Марина не отъехала на эту свою чужую дачу, а Витю неизъяснимо потянуло на прогулку. Он вышел из школьных дверей, потянулся с хрустом, послал Марине смс, чтобы она не волновалась, и рванул сквозь Головино по руслу Лихоборки.
Очень быстро он то ли попал в места, где никогда не был, то ли места, где он был, изменились до неузнаваемости. Вверху что-то строилось: висело, искрило, орало. Учительское сознание подсказало Виктору Эдуардовичу слово «хорда». Но вот окрестности постепенно успокоились, как если бы утихла головная боль. Пальцев застыл на неприметной тропинке. Вокруг трепетал бескорыстный весенний лес. Впереди в лиственных дырах пока что сравнительно бесшумно мелькало Дмитровское шоссе.
И тут Вите удалось сформулировать свой запрос к вечности, если она ему брезжила. Он предпочел бы так идти и идти сквозь эту серую, неопрятную, мусорную Москву, и чтобы где-то его ждали Марина, Зоя и Софья Казимировна.
Он аж вздохнул от простоты ситуации. Потом вздохнул еще раз без повода и пошел вперед – на мелькание и нарастающее гудение Дмитровского шоссе.
Продолжение >_________________________________________
Об авторе:
ЛЕОНИД КОСТЮКОВРодился в Москве, в актёрской семье. Окончил механико-математический факультет МГУ и Литературный институт. Преподавал в школе литературу и математику. Публиковал статьи, эссе, стихи, прозу в журналах «Арион», «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Иностранная литература», «Интерпоэзия», «НЛО», «Новый берег», «Новый мир» и др. Был куратором литературных вечеров в Ахматовском культурном центре, участвовал в качестве постоянного ведущего в работе Эссе-клуба. Автор книг «Он приехал в наш город» (1998), «Великая страна» (2002), «Просьба освободить вагоны» (2004) и др.
скачать dle 12.1