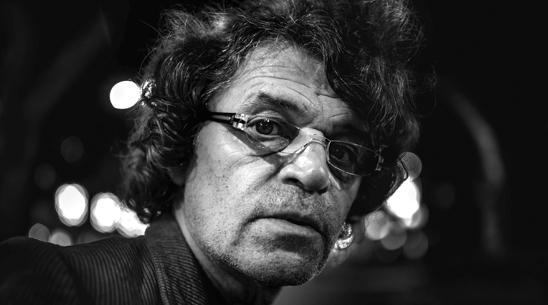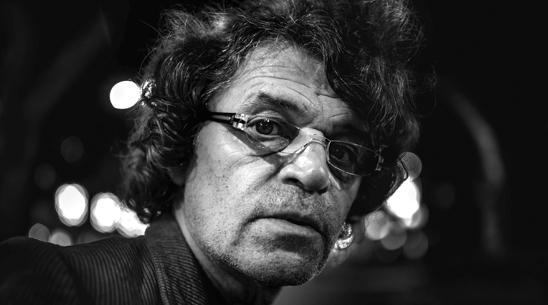 «Теллурия», Набоков и не только.
«Теллурия», Набоков и не только. Первая прочитанная мною набоковская книга – роман «Дар». Даже не пытаюсь представить себе, как
всё повернулось бы, прочитай я сначала «Подвиг» или «Король, дама, валет», к примеру. Но это был недаром «Дар»! Помню совершенно ошеломительное впечатление от романа – соки чистейшего языка, гроздья незапятнанных изысков, свободно нависающие, предлагающие себя взалкавшему читателю, тоскующему по богатству и красотам некогда прославляемой
медлительной речи. О да, этот миф был ещё жив, несмотря на десятки лет безоглядного насилия со стороны деревянной идеологии и её борзых носителей. По ходу чтения, конечно же, возникали различные мысли, какие-то соображения посещали закрома извилин, но всего этого даже приблизительно не восстановить. Зато после того как я закрыл белоснежный ардисовский том (кстати, очень редкий завод, всем известны синие тома, но вот белый «Дар» минимальным тиражом вышел) под костью лба буквально вспыхнуло: так вот почему стоило уезжать! .. Произошло это чуть более 40 лет назад: спустя неделю-другую я купил «Возвращение Чорба», затем, всё в том же магазине (куда через два года удачно устроился на лучшую для молодого сочинителя работу) приобрёл «Лужина» с его маетой промеж клеток шахматной доски, ну и так далее.
Когда у меня красовалось уже штук пять цветных ардисовских томиков, о смерти Набокова неожиданно передали по радио. Смешно сказать – в Израиле он был гораздо известней, чем
у себя на родине. О преклонном возрасте писателя знал весь мир, и я – не исключение, но всё равно его уход показался мне некой постановкой, как-то оно нарочито смотрелось: Ну?.. Ты познакомился? Читаешь?! Окей, продолжай в том же духе, но МЫ его забираем, а то бабочек не напасёшься... Я конечно же тут немного загибаю, но предсказуемая «внезапность» ухода воспринималась мною как
всесторонне продуманная случайность. Случайность отнюдь не случайная и невероятно досадная: к тому времени тёзка-дворянин занял центральное место в моём сознании – не пытаюсь проводить аналогии, с чем-то сравнивать, ничего подобного, – Набоков стал ярчайшей звездой, сверкающей в бездонном мраке стынущей пустыни, образцом благородной стойкости, путеводителем бескровного сопротивления потугам скользкой всепроникающей энтропии. Причина тому ясна. И убедительна, как сокровенный горный родник.
Наша родина язык. Поэтам такой подход известен и ясен, долгих объяснений не требует. А вот какие неудобства испытывает душа поэта, когда он перескакивает на язык
другой, хоть и хорошо знакомый, я не берусь вообразить. Прежде чем сменить языковое пристанище, Набоков подтвердил безумную, а для некоторых – бесполезную преданность красоте русского языка. Ежедневная борьба с плоским соблазном «упрощения речи» в эмигрантском языковом аквариуме для меня отнюдь не выдумка, за десятки лет постоянного пребывания вне метрополии я стал свидетелем сотен и тысяч позорных соскальзываний в безмозглую чавкающую трясину разъедающего косноязычия. Оно засасывает быстро: человек сдался один раз, простил себе «лаконичную» косность, потом второй раз простил, третий – и всё, ТЮТЮ, он уже не в силах сопротивляться собственной деградации, тем более что: все же так говорят!.. И потому Набоков для меня – духовный ориентир. А дабы сказанное не казалось чем-то приторно поверхностным, я уточню: духовный т.е.
мета-эстетический.
Препарат «Лирика» предназначен для полного обуздания фантомных болей, возникающих естественным образом у большинства пациентов вследствие ампутации конечности. Это средство на редкость эффективно и – факт немаловажный в практике Homo Ludens – не сковывает пациента муками жестокой физической зависимости. Разумеется, после столь кардинального обозначения масштаба требований к художнику слова, моим вниманием завладело «течение» современной литературы на русском языке. Я подчёркиваю: на русском языке, поскольку эта речь остаётся родной, нравится оно или нет. Конечно, искус сравнения
того с тем или этим при таком подходе для человека неизбежен, хотя признаю – должен был быть подавлен в зародыше: смысл-то игры в другом, да и игрой свою любовь к изящной словесности я назвал лишь в угоду вездесущему Такту. Впрочем, если совсем всерьёз, то игра называемая литературой, несёт в себе риски немыслимо высоких ставок. Да-да, всерьёз именно так! Однако, если вы думаете, что далее пойдёт разговор об амбициях, так вы ошибаетесь – не пойдёт.
А теперь, пренебрегая поступательным развитием событий, широкими мазками форсируя хронику, не лишним будет напомнить об эмиграции художественных сил из СССР – уехало так много, что на каком-то этапе казалось – русской литературе приходит конец. Такие вот беспутные факты: мало того, что новаторский литературный потенциал огромной страны старательно сводился к нулю усилиями сначала РАПП`а, потом – Злодея и его палачей, в 70-е едва окрепшая творческая интеллигенция, убедившись в иллюзорности Оттепели, хлынула из страны в Израиль, США, Европу, хоть в Новую Зеландию – лишь бы не «участвовать». Да и власть без особых затей лишала гражданства запросто. Возникало ощущение постепенного, но решительного, безапелляционного четвертования свободного художественного слова сродни средневековым истязаниям. Феноменальная дворянская литература в лице выше упомянутого В.Набокова ушла безвозвратно, а лучшие силы современности (Саша Соколов, Мамлеев, Аксёнов, Волохонский и Бродский, Марамзин, Генделев, молодой и талантливый Хорват, кто ещё? – Хвостенко, Каганская, Зиновьев, Л.Лосев, последний футурист Савелий Гринберг, ККК и Бурихин, Довлатов, в конце концов, – господа, моих конечностей не хватает, но и вам своих не хватит, сколько бы голов в семье ни было!)
страждят, бедные, за колкими пределами отечества и давятся ежедневно краснеющей от стыда за них чечевицей... Список выглядит внушительно, не правда ли, а ведь я даже десятой части литераторов не упомянул. Причём – вопрос «кто следующий?» не стоял, скорее «кто там останется?» вопрошали. А чистка внутри Союза – от вредной литературы – принимала маразматический размах. Жена, в смысле официальная (было со мной и такое), рассказывала, помнится, как в библиотеках Ленинграда списывали книги Виктора Некрасова, Максимова, Марамзина, «Один день» Солженицына, Гладилина и разных других: не просто списывали, не-не, подход был фундаментальным – под гильотину отправляли! Другими словами, литература прекращала быть отечественной и превращалась в эмигрантскую. Неснятое кино: Литература русского изгнания... – звучит булыжно, чтоб не сказать камнелётно, однако не очень убедительно, – всем же известна её плотная имперская многомерность: у русского языка есть чудесное свойство выбирать талантливые явления среди нацменьшинств, а затем с лёгкостью их адаптировать, «заразив» своей гибкостью и волшебным влажным лиризмом...
Любители почти-огромных чисел бросятся мне возражать: Да ты сгущаешь, подавляющее большинство осталось! Вознесенский остался? Остался! Ахмадулина осталась? Осталась! А Распутин-Белов-Астафьев! А Бакланов-Рыбаков-Айтматов! А любимчик твой Зульфикаров! А Сулейменов, несмотря на запрет книги! А Маканин! А Тендряков! А Гранин! А Битов, наш бескомпромиссный, как подводный мир и поздняя ихтиология, Битов! Да что их теология! наш непреклонный, наш спасительный Арарат – Битов! да что там ихний Арарат, это же наш Пушкинский дом, наш светлый ДАР! и не хуже вашего «Дара»!!!
Танки в Прагу даже Гитлер не вводил... Двадцатый век?! – безнравствен, как дудка логики. И приучил нас к тому, что изощрённый цинизм принимается за утончённое чувство юмора... В лесу находка мишкина, а под забором – Гришкина (несвежая народная мудрость). Невредимая осень, эмигрантская мята... «Пушкинский дом» сравнивать с «Даром», ну ей Богу, невмоготу.
Этот Одоевцев со следами позавчерашнего борща на ботинках и серой штанине, глубокомысленно толкующий: Блок-де это конечно да-ух-ах! но Пастернак, ой, ближе!! А все остальные, надо понимать, дальше... Честно похмеляющийся раз в сто минут Одоевцев, поскольку к той нельзя, к другой поздно, ну хотя бы глоток, тяжело-непонятно, и – рядом с ним?! – свободный и бодрый Годунов-Чердынцев, на лету схватывающий малейшие изменения
окружающей среды в радиусе двадцати, а то и более метров – неважно какое оно: то может быть кружащийся пропеллером, падающий на асфальт пожелтевший лист (отметим, пригодится!), а может быть редактор
нашей газеты, наскоро вдевающий равнодушное прежде выражение своего лица в морщинистую маску фальшивой озабоченности (и это пригодится!).
Во время Великой Отечественной самая младшая сестра моего деда (имени не помню, и фото её не видел никогда) была молодой, по рассказам судя – очень красивой женщиной, в 1942 году 26 лет от роду. С двумя крошечными детьми на руках: кажется, два и три года деткам. Они жили в бывшем Бахмуте; муж – шахтёр, был призван в армию, соответственно – на фронте, война ведь. За то что мужья на фронте немцы баб не расстреливали – не дураки же, в конце концов: крупная война, мобилизация всеобщая, всё это они понимали. Но вот нашёлся один доброхот, пожилой украинец, указал немцам на молодую-красивую, дескать, еврейка она, не просто жена шахтёра. Во время очередного рейда «чистильщиков», её с детьми (и ещё сотню «распознанных») загнали в барак и сожгли. Живьём. Читатель, конечно, заметил, что временные рамки основной канвы текста ограничены 70-ми и первой половиной 80-х годов. Мы там застрянем не надолго, но избранный мною формат (а точнее – сам жанр) позволяет ткани словесной любопытствовать и заползать в самые дальние углы авторской памяти свободно и с полной ответственностью; пускай вас это не удивляет.
Зато на дворе вторая декада третьего тысячелетия со дня рождения Христа, с ошибкой в 4 года высчитанного «скифским монахом». Ну надо же, как ни считай, с нами такое в первый раз!.. Прозорлив был всем на зависть Юрий Карлович:
мы живём впервые.
Но если снизить обороты полусладкой шутливости, если настроение своё направить в русло созерцательно-обобщающего наблюдения, спокойно гасить при этом любые поползновения спекулятивного концептуализма, если ... – то следует признать, что мы обретаемся в давно знакомой зоне фантастических утопий, в пространстве, будоражившем воображение Лема и Бредбери. И потому назрел разговор об утопиях новых и старых, об антиутопиях разных. Вот «451˚ по Фаренгейту», например. Воспринималась ли эта книга как антиутопия? Русский читатель 60-х годов вряд ли так ставил вопрос. А ныне всяк согласится: произведение оказалось пророческим. Не на сто процентов, к счастью, но Бредбери предвидел опасность и угадал её оползни – книги сегодня выбрасываются, а Знание – на фиг не нужно: «оно где-то у меня в айфоне или в какой другой жопе, ну где-то там, ща кнопку найду, бл..., не, сука, другую, да х...ли ты в натуре, всё путём, не ссы!». Тут надо чётко различать – в массах дело обстоит именно таким образом, каким Рэй Бредбери ситуацию описывал, а я пытаюсь её передать, используя лексику обыкновенного долбо.., неожиданно для себя и окружающих попавшего в цейтнот: простенькая сценка.
Сегодня нам легче происходящее оценить – русский человек побывал где угодно, включая Токио, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Стокгольм, не говоря уже о Лондоне или Риме. А что мы могли в 60-е знать о быте американца? – разве что по журналу «Америка», доступному в СССР единицам (это в Москве и Питере – единицам, а в Астрахани? в Саратове?..). В общем, Рэй Бредбери был внимателен, увиденное обдумывал, без подмешивания идеологического желатина и убойных примесей спокойно всё взвешивал, – а потому честь и хвала любимому «марсианину», американскому гению, фавориту технической интеллигенции.
Из-под столешницы мне, как всегда, сыпятся любезные подсказки: а Оруэлл как же?.. Ну что Оруэлл... Оруэлл предвидел современную британскую столицу – в Лондоне тебя видят везде и всюду, этих «глаз» понатыкано тысячи, но! В Лондоне вроде не пытают за образ мысли, и уж тем более не «раскалывают», подсовывая крыс. И в Китае от пыток крысами, насколько мне известно, отказались. К тому же в Китае легче смыться: там нет возможности засечь тебя в любой точке. И вообще: тема настолько огромная, что не остановиться, – не стоит мне указывать на фантазии Брюсова или Лао Шэ. Всё это – плюс Сен-Симон и не знаю кто, – не подходит! И вам станет ясно почему.
Итак, дорогой читатель, мы прорвались сквозь подсказки. Продолжаем...
Одну утопию сегодня я отношу к сорту пророчеств стопроцентно точных, ну, как попадания Нострадамуса – в яблочко, без глупой болтовни про «здесь не совсем, а там – четыре месяца разница»! Родители наши в этой УТОПИИ жили, даже любили и работали и, что совершенно невероятно, ни минуты не подозревали сколь подробно эта «утопия» была воссоздана на бумаге за 330 лет до! Кто-то не верит, чувствую. Ладно: речь идёт об очень известной книге, которую никто не читал, называется она «Город Солнца», автор её – итальянский писатель по имени Кампанелла.
Для начала – кто такой Томмазо Кампанелла?.. Для кого-то он «величайший сын Италии», для кого-то – философ неважный, к тому же плохо разбирающийся в людях, а для третьих – католический мыслитель, своим учением предвосхитивший реформы католической Церкви 20-го века. В чудовищных условиях неаполитанских тюрем и темниц Кампанелла пробыл 27 лет безвылазно за подготовку антииспанского восстания и беспробудную ересь, в коей периодически обвинялся; плюс к тому несколько арестов инквизиторами и пребываний в тюрьме сроком от считанных дней до полутора лет ранее, плюс поднадзорное, инквизицией опять же курируемое, двухлетнее пребывание в Риме, насколько я понимаю, частично в тюрьме, частично в монастырской келье-одиночке без права на свидание. Прибавьте к этому фантастические пытки, через которые Кампанелла прошёл – и не сдался! Вот одна, самая страшная, но – только одна из: 36 часов дыбы, когда медленно, но наверняка травмируются (а то и рвутся) мышцы и сухожилия, а «пикантность» пытки в том, что тело насажено при этом на кол, причём кол впивается.., цитата:
В течение сорока часов я был вздёрнут на дыбу с вывернутыми руками, и верёвки рассекали мне тело до костей, и острый кол пожирал, и сверлил, и раздирал мне зад и пил мою кровь, чтобы вынудить меня произнести перед судьями одно только слово, а я не пожелал его сказать, доказав, что воля моя свободна. (Взято из Википедии)
О том, насколько он разносторонне развитая личность, и что им утверждалось тогда-то и там-то, распространяться тут неуместно. В 1602 году этот человек написал «Город Солнца» и впоследствии умудрился его опубликовать на латыни (первое издание на итальянском было через триста лет). Я утверждаю: Советский Союз времён Сталина это чудовищный аналог Города Солнца. Не в обиду философу и теологу, экзегету и астрологу, метафизику и поэту – силой воображения ему удалось подсмотреть, находясь в застенках, лишённых как вы понимаете не только современного комфорта, но и лениво рассеянных порций дневного света, залапанного до тошнотворной серятины каменными объятиями, а порою – трудно поверить, но факт наповал! – залитых морской водой по самые ятра несколько раз на дню – удалось высмотреть и, опуская негативные проявления увиденного (се – мой домысел, но похоже на правду), всё зафиксировать. Он это увидел и рассказал о том весьма сухо, словно схему накидал. Но василиски власти в империи Советов свихнулись от прочитанного, и решили соответствовать схеме (в главных чертах!). Я ни на йоту не утрирую. Труд в «Городе Солнца» общеобязателен, и это положение не обсуждается. В книге проводится мысль, что труд для любого гражданина – дело чести, именно поэтому к сей «проблеме» граждане относятся очень легко: с аксиомой же не спорят. Далее, в «нашей» солнечной утопии истина есть общественное достояние и не дай Бог кому-либо даже среди своих (а проще: в семье) усомниться в истине. Как вы думаете – почему?.. Поздравляю, вы угадали! – потому что дети следят за родителями, и они (дети) настолько «сознательные», что
доносят на родителей в случае прорастающих
сомнений в головах у последних. Вот вам, пожалуйста, сам Павлик Морозов, которого скорее всего не было, но которого надо было обязательно придумать! И ещё один момент. Правители в городе Солнца – все учёные. Причём – чем учёный больше знает, тем у него больше власти. Главный правитель – Метафизик, его и Солнцем зовут. В принципе, он из касты священнической, но религия в городе слита с наукой, так что он и жрец, и разбирается во всём (как Сталин, корифей всех наук и областей Знания), и управляет научной деятельностью. Вавилова, генетика, лакеи Людоеда забили до смерти, зато сам Людоед был спецом даже в языкознании. И страшнейшую в истории войну выиграли, конечно же, благодаря лобешнику Людоеда – а как же иначе!..
Теперь понятно почему я завёл издали разговор о наших родителях? Они не просто жили в Городе Солнца, великой утопии всех времён, они эту утопию даже пережили!
И... в качестве заключительного аккорда в этой части свободных излияний: А.Луначарский был потрясён личностью Кампанеллы и пытался написать о нём нечто внушительное. Но основную часть под названием «Солнце» так и не дописал. Повезло наркому просвещения – не дописал и не пришлось выяснять отношения с Кобой. А закончил бы – Коба непременно что-нибудь себе скоммуниздил: вульгарно сп…. во имя светлого будущего Злодей не брезговал никогда – у Ленина, Троцкого, у Бухарина, – и как ни в чём не бывало затем «рассуждал» на тему, а то и действовал
по лекалам присвоенной модели...
«Подобно всем странам, где Таис встречалась с угнетением женщин, государство персов должно было впасть в невежество и наплодить трусов». И.Ефремов, «Таис Афинская». НАКОНЕЦ! Наконец, бумага бастует и требует... Есть часы и минуты камни разбрасывать, а бывает – ты должен их собирать, внушал мудрец. Так и поступим: постепенно прояснится – с чего вдруг Набоков в роли зачинщика, какие-такие фантомные боли, отчего ни с того ни с сего утопии-антиутопии вспомнились автору, и зачем финтит он...
Дабы не томить: в «Даре» Набокова дважды мелькнул персонаж по фамилии Владимиров – помните? Он был автором
«двух романов, отличных по силе и скорости зеркального слога» – такова характеристика. Имеется в виду сам Набоков, а один из двух романов,
по скорости зеркального слога выделяющийся, – «Приглашение на казнь». Нам пригодится знание об этой книге в будущем.
Далее: ощущение постепенного усыхания русской литературы, превращения её либо в имперскую на доминирующем языке, по образцу литературы на латыни в империи древнего Рима, либо в литературу русскоязычной диаспоры опять же, – ощущение закономерное, но объяснение тому лежит глубже плоскости «безысходно кромешной истории»: 1917-ый с последствиями и т.д., и т.п., и пр. Объяснение тому лежит в области, называемой с недавних пор «человеческим фактором». Ни тени шутки. Понятие самоцензуры не мной придумано, а ГЛАСНОСТЬ середины 80-х лишний раз подтвердила сей момент: ведь большинство писало о том, что можно. Ну разумеется, кому приятно строчить в стол?! Шаламов, правда, писал в стол. Хуже того, на него давили, как на Галилея, отречения требовали публичного, добились своего, чем озолотили биографию писателя, вопреки собственной дурости. А вот хвалёная «деревенская» плеяда, честностью коей нам прожжужали миллионы правых и левых ушей, – она
писала о том, что можно! И только о том, что можно и как можно: автоцензор «деревне» внутри диктовал, поправлял-останавливал.., а потом их печатали – честно, без купюр. Вот вам веская причина зарождения болезненного зуда, который называется фантомной болью, – нечто напрочь исчезнувшее (отрезанное, допустим) вдруг болит. Сильно болит! Так что же «болело»? – ну это ясно, как Божий день, – болела правда...
Автор этих строк, как зовут меня – так и пишут, не мог за всем уследить из-за кордона. Оно и понятно – основное моё внимание притягивала поэзия, всё-таки. Тем не менее, я стремился «взвешивать» и прозу. О поэзии – вкратце: «Пятьдесят капелек крови в абсорбирующей среде» я считаю лучшим достижением Пригова, – и слава Богу, что он их не перепечатывал из книги в книгу – не залапали шедевр, и хорошо!.. С прозой туманнее: несмотря на то, что крайне раздражал соцарт, бесконечное злорадное зубоскальство поперёк горла торчало и вдоль дури рядило, сам рыжий факт возникновения соцарта свидетельствовал: «вырваться» из клешней автоцензора удаётся многим. Ну что ж, раз так – и то дело! О ту пору, конечно, я предпочитал «Змеесоса» Радова всему остальному (постмодернизм без вкраплений соцарта, с прямыми попытками привлечения
театра психотропики). Для СССР – атас!
Однако «слежка» моя всё равно продолжалась, Радовым
ДЕЛО не могло исчерпываться. Что происходит с Веничкой; в середине 80-х в «Континенте» была опубликована его пьеса, всех ошарашившая. Неприятный сюрприз. Что происходит с другим Ерофеевым? Его «Русская красавица» действительна хороша, смело подано, без жижи, бл...во откровенное, навылет дьявольское, хотя смущал один момент – фактура «традиционная», решение обыкновенное, в известном смысле, линейное. Критика его же – действительно сдвиг, яркий и ощутимый, а роман хоть и хорош, но традиционная анатомия – а претензия-то о другом... И вот тут очень сильно удивил «Месяц в Дахау» Сорокина. Именно удивил. И впрямь: с одной стороны Дахау, конечно, не санаторий, но нам известны и Маутхаузен, и Берген-Бельзен, а уж о Треблинке жутко думать-говорить, к тому же произведения Кацетника, хоть ты тресни, но тотальней. С другой стороны: «Месяц в Дахау», а точнее его автор, он что? – соревнуется с Соколовым? с «Палисандрией»? или – этот эпизод с фотографией мамы есть намёк на
вынужденное предательство родины? и тем самым – всё навыворот читайте? – может, идиотские вопросы; возникают и идиотские вопросы во время прочтения того или иного. Сколько вопросов возникло у тебя, дорогой читатель, и какие то были вопросы, по мере углубления в роман «Подросток», например? А – по мере углубления в прозу Жоржа Батая?.. «Палисандрия» – первый по-настоящему постмодернистский роман на русском языке, совершенно в России недооцененный, абсолютно не понятно почему?.. Хотя, ежели Россия родина самых-самых вишнёвых слонов, то зачем мениппеи всякие ей, куда их совать, мениппеи енти самые? да ещё с какими-то беккетовскими заковырками ко всему прочему неприличному?! Ох, бедная ты страна, и такая богатая!.. А «Месяц в Дахау» помельче, скажем, и зачем Сорокину нужен был соколовский ход? Но произошло нечто куда более важное: Владимир Сорокин привлёк внимание, что, согласитесь, самоценно.
После этой странноватой повести я прочитал «Тридцатую любовь Марины». Не, нет, совсем забыл об «Очереди». «Очередь» сорокинскую я прочёл в середине 80-х, но имя автора к 90-м годам выветрилось из головы. А «Тридцатая любовь...» убедила меня в мастерстве автора. Сегодня я полагаю, что этот роман для тёзки был некой тренировочной пробежкой с целью убедиться во владении пером. Буквально: владею, значит, могу сделать всё что вздумается. Писатель, как мне видится, убедился на все сто. Четыре, если не ошибаюсь, лексических пласта, в отношении стиля выдержанных безукоризненно:
стило не подвело его ни разу; сделано без напряга (таково впечатление); чудовищный язык информационных средств официоза, по правде сказать, обламывает страшно – глаза перекошены после того, но ведь так и должно было быть! А значит – задача выполнена. Что в свою очередь доказало – автор небывалый, «глаз с него не спускать»!..
Пусть читатель мне простит затянувшееся «раскачивание», но в любом случае – плывём, не назад, а вперёд, что и требуется от лодки. Гребу-то я один, и шестом в одиночку орудую, а дно тут илистое! Так что простите...
Где-то ближе к концу века заядлого соцарта выпало, наконец, время – так выпадает карта, – других, разнокалиберных, но совершенно нелишних для более углублённого понимания загадки писателя книг: это гениальная «Норма» и тошнотворная «Сердца четырёх». Первые страницы «Нормы», где используется приём из «Масок» Андрея Белого, кинематографичны до предела, все эти сцены с персонажами, подобранными из толпы скучающих статистов, как в кино мимо глаз проплывают ненавязчиво и убедительно. Но сказано в романе больше: помните кошмар сожжения в деревне, когда хором решался вопрос – жить или на тот свет сгинуть? Здесь Сорокин, молодой ещё человек, по-любому, заметим, не прошедший
огонь, воду и сибирские трубы автор, высказал больше этой взасос зацелованной «деревенской» линии. И пускай на «лице» сей якобы школы метины губной помады сердечком со стрелой – Сорокин смело показал, чего оно – «лицо» это бородатое, – не посмело: как большинство «коллективно» задавливает нормальное человеческое милосердие на корню. И это с вялой помощью ЧК, с молчаливой подачи кожаных тужурок! Мне возразят: о том было невозможно писать. Ну верно, о том было НЕЛЬЗЯ, и до сих пор о том НЕМОЖНО.
Было бы недурно посвятить разбору «Нормы» больше времени – там ведь великолепные есть
этюды, хотя бы переписка насчёт сломанной калитки – шедевр! Но не выкроить... Зато по прочтении обеих этих книг ситуация с другой, с «Месяцем в Дахау», прояснилась. Сцена с фотографией матери обрела совершенно иное звучание. Не соколовское!.. Мне приходилось говорить о тяготении Сорокиным к теме фекалий, и что скрывается за этим извращённым кодом в его прозе. Уточню, в ранней прозе. Герои книги «Сердца четырёх» буквально друг друга подзаряжают, испуская газы прямо в рот «коллеге», и это придаёт им силы. Брикеты фекалий в «Норме» являются такой же нормой в обиходе, с годами почти не изменившейся, как победившая идеология. И они обязательны, эти брикеты, как пища, придающая силы. Вообще, идея, подогревающая немыслимую одержимость, провоцирующая слепое обожание, связана с фекалиями. В первую очередь идеология, идея-фикс во вторую. Есть у раннего Сорокина рассказ, в котором ученик, помешанный на учителе, во время экскурсии класса на природу, подсмотрел, как тот испражнялся на поляне под луной, и бросился поедать свежие фекалии обожаемого учителя... Я понимаю «Месяц в Дахау» так – любимая мама: Родина: загаженная идеологией – испражнениями сына: сын – образ вполне собирательный, грубо говоря: мы же сами и загадили родину идеей-фикс о светлом будущем. Опа, разве не так? А теперь ещё и страдаем! (
Что, конечно, Никогда! – реплика ворона с этажерки).
Поскольку маршрут моего ознакомления с творчеством В.Сорокина оказался петляющим и неожиданно непоследовательным, – постольку избирательным с моей стороны становится и слово о письме, приёмах, мыслях и тайнах этого автора (по мере возможности, понятное дело, хотя вряд ли это подчёркивать надо). Поэтому, не стремясь восстанавливать в деталях картину конца века и начала тысячелетия, лишь вскользь отмечу пассионарный выброс энергии в русской прозе с 1999 по 2001 год: вышли три книги разных авторов, одна лучше другой:
Андеграунд или герой нашего времени Маканина,
Блуждающее время Юрия Мамлеева и роман Сорокина
Голубое сало. На последнем остановим наше внимание.
Первые сто-сто двадцать страниц гениальны, стиль – золото! Далее вставлен очень весомый и давний рассказ в канву романа. А далее, на первый взгляд – совсем странный поворот. Но действительно ли такой уж «странный»? Ключом к пониманию романа является понятие деконструкции, в данном случае – деконструкция тотальная: литературы, истории, власти и отношений внутри Кремля. Ко всем этим орешкам натыкаемся в романе на первый внятный набросок антиутопии, пока на уровне отдельных штрихов. Деконструкция вовсе не означает переосмысления от А до Я, с арматуры фундамента начиная, вовсе нет. Это приём, в голове философа Деррида рождённый, означающий резкую смену ракурса наблюдения. По-моему, деконструкция есть аналог
кривочтению Хэролда Блюма. Для простоты: ближний пейзаж может разительно измениться, стоит нам вдруг перейти на 150 метров в сторону с обычной площадки обзора. В принципе, деконструкция как приём в литературе возможности пера обогащает невероятно, этот приём ко двору Постмодерна пришёлся как нельзя кстати. А уж сорокинский соцарт враз испёк полромана деконструктивно. Я немного адаптировал
взгляд на деконструкцию, поскольку
приём философа замысловатый оказался по зубам Литературе. А вот Философии – вопрос висит, висит и висит. Ежели не так, пусть Философия возразит немногословно, да не путая деконструкцию с деструкцией.
Верховный суд Хазарии (или Хазарского каганата) был интересно устроен: он состоял из двух представителей иудаизма, двух представителей христианства, двух мусульман и одного язычника. Павич о том не упоминает, в главных его произведениях, по крайней мере, такой информации нет. Между прочим: проклятая тема фекалий всплывает на страницах и этого романа. Более того, имеются чуднЫе слова:
Люди, поверхностно знакомые с фекальной культурой... – ну разве могло быть иначе? Разве, когда разговор идёт о Большом театре – средостении единственно идеологически выдержанной и (...
даже в области балета!)
верной на планете
культуры! – не дОлжно было автору подчеркнуть
канализационный аспект, если сам автор не соотносит сие плохо пахнущее содержание с идеологией (да ещё и времён Тирана)?! Так что, я полагаю, этот вопрос закрыт. А нужную фразу и следующие за нею я вам переведу целиком, дабы средний вкус не сильно давился
: Люди, поверхностно знакомые с культурой победившей идеологии, полагают, что начинка агитационных каналов подачи достижений данной Культуры – густая непроглядная масса девизов и лозунгов. Это совсем не так. Девизы и лозунги составляют лишь 20%. Остальное – пропагандистский винегрет из красных мозолистых слов, восклицаний, запятых... и настырных до крови твёрдых и мягких знаков (шутка).
Однако мы говорили о деконструкции, накинувшейся на саму литературу, нет, точнее будет вот так: вознамерившейся дискредитировать САМУ Литературу! Да-да! Русскую! Великую!
Ладно – не до растрёпанной иронии нам здесь: торжеством деконструкции крайне сложной структуры отношений во власти, в коридорах, дальних комнатах и едва вымытых закутках Кремля, стал, как водится среди владеющих любыми языковыми оттенками, безоглядный и грубый стёб. Саша Соколов на той орбите побывал раньше, он ведь тоже
деконструировал в своей «Палисандрии» – через семейные связи – эти отношения, но не в такой резкой форме: мягче, человечней, и юмор теплее. Не сомневаюсь в том, что Сорокин не просто внимательно
читал Соколова, а кое-что почерпнул. И ничего плохого в том нет – наоборот как раз. Но вот произвести аналогичный опыт с литературой, с самыми видными (и любимыми публикой) писателями, да ещё «благодаря» клонированию – такой фантастики вряд ли кто ожидал! Тем не менее, мы это ИМЕЕМ, факт, хоть он и литературный, налицо...
Читатель, ты случайно не ждёшь от меня, что начну сейчас ковыряться в образцах письма, выданного на гора сочинёнными писателем монстрами? Нет уж, уволь, тут я ограничу свою прыть; воображение Сорокина чрезмерно, излишества – его конёк, впечатление, что ему это хорошо известно и писатель сам не очень знает «куда сие девать», поскольку чрезмерность начинает душить форму. А я, в свою очередь, попытаюсь отделаться минимумом замечаний относительно творчества сорокинских клонов.
Прямо и без канители: А.Чехов моим автором не был никогда. Лучшее, что я читал у него – всем турусам объективности: стоять! – Чехов умудрился испортить последней в повести фразой. Взял и запорол морализатор свою «Степь», прекрасную «Степь». Я равнодушен к его театру на бумаге, другое дело – сцена, но ведь подмостки актёрской игрой одухотворены, не текстом, а игрой! Поэтому, разрешите промолчать.
Реконструкт Ахматовой (пользуясь термином писателя) поразителен. Правда, из этих «Трёх ночей» первые две и предпочтительней, и похожи больше. Причём, самой Анне Андреевне при жизни не удалось ничего подобного двум первым
клоновым стихотворениям написать, да поверят мне Аполлон и грации! – ей просто не под силу, хотя старалась. Что касается
ночи третьей – реконстукт странный, чтоб не сказать – невпопад: ничего общего, скорее похож на Цветаеву. А может, перед написанием «Третьей ночи»
клон начитался былин да сказок?.. Даже не знаю, стоит поинтересоваться у автора или оставить?
Клон Достоевского прикололся
«слёзы прочь». По мне – прикол преувеличен. Преувеличение в духе Сорокина, правда. Церемонность предподъездная и предгостиная пойманы отлично, истошность и истеричность задушевных, околодушевных и вместодушевных интриг выражены прекрасно, но развязка имеет абсолютно сатирический оттенок, словно пожелал
клон обвинить Фёдора Д. в чём-то. Да нет, даже хуже, уличить и выставить на посмешище, зная, что наблюдают тысячи глаз. Со своей стороны оговорюсь, возможно, преувеличиваю я – ну да,
коленкор не всегда одинаков. Что естественно.
На Пастернаке, может показаться, автор элементарно
оттягивается. Я в этом не уверен. Это скорее манера сорокинская: всех кого смогу – опущу. А Пастернак настолько
подходящ – не отвертеться! Судите сами: совершенно блевотные страницы с описанием Большого театра, – где дают оперу «Евгений Онегин»! – заполненного до верху канализационными отходами и... зрителями в костюмах с масками для воздуха, – пропитаны ликованием придуманного писателя Николая Буряка, который исходит эпитетами восхищения в адрес исполнителей, оркестра, декораций, света, голосов... Особенный восторг от арии
Любви все возрасты покорны! – и вперемежку с вроде как необязательным, но присутствующим упоминанием
мечущихся стай экскрементов вдруг цитата: «И дышат почва и судьба». Вы скажете – это Буряк. Это он любит Пастернака, и потому. Ой ли? А я-то думал, что Сорокин. Надо же, ошибочка...
А что думать о клоне? И о том «бесстрашном» опыте? Мы читали у Пастернака лучше стихи, гораздо лучше, вообще: 27-летний поэт – гений! Позже, так сказать, зрелый мастер, но гениальность, мелькнув будто на прощанье в «Лейтенанте Шмидте», ускользнула от него,
в даль социализма – которая якобы
рядом, – в «Детство Люверс», может быть, ушла (всего-то). Пути Фебовы неисповедимы; может оттого, что БП «честно» отказался сделать предисловие к книге Кручёныха?.. Сорокин знает Пастернака хорошо, и перечитывает поэзию, я в этом уверен. Так что придётся мне покривить душой, сослаться на слова сорокинского героя: «... я терпеть ненавижу русмат. Поэтому и не комментирую».
Платонова клон сорокинский
реконструировал очень здорово, ай да Сорокин! Особенный стилистический окрас передан без натяжек, и главная платоновская
фишка: нет ценности выше Человека и человеческой жизни – сохранена и подчёркнута. Что не просто. А Толстой, Лев Толстой – у Сорокина, т.е. у клона сорокинского – завал! Работа тонкая,
ремесленный акцент соблюдён чисто, вплоть до совершенно осязаемой, выпуклой как в «Утре помещика» изобразительности (акрамя игривой фразы про молоток, конечно), словом, безукоризненно! Но вот с Набоковым этого не приключилось. Я слышал от людей неглупых, разбирающихся в русской литературе, следующее утверждение: Сорокин Набокова ненавидит. Ссылаются при этом на данный опыт, мол,
клон специально ни в какую – работа неубедительная именно в силу неприятия автором Набокова. И приплюсовывают к тому увесистую цитату: «... весь текст писан кровью. Что, к сожалению,
не получилось у оригинала». Обвинение сильное. По прочтении «Голубого сала» похожее впечатление создалось у многих. Но я начал это эссе с целью показать мощь дара Сорокина в одном из последних его романов, в «Теллурии», где он развернулся, как никогда, и среди прочего доказать, что Сорокин знает и ценит Набокова. Более того, он один из немногих, кто тонко и грамотно набоковское наследие использует, кто опирается на Набокова.
Пустили в ход идиому, подпитывающую пэтэушный атавизм: за державу обидно – и народ ею козыряет. Подворовывает, но козыряет, ручищами размахивая! У молодого В.Катаева есть роман «Растратчики» – не то чтоб хорошо написано, нет, да подмечено верно. А в рассказе «Фёдор Бесприютный» очередного моего тёзки, Короленко, однозначная несправедливость объяснялась так: «Да ведь оно уже заведено, – мямлили арестанты...» «Теллурия» написана в новом тысячелетии, в новых условиях – ДАННОСТЬ иная: прежде всего то, что мы зовём ноосферой, обогатилось в разы. «Теллурия» это мощная антиутопия, созданная мастером высшего пилотажа, и я надеюсь – все, кто читал её, согласны с моими тезисами. Роман этот – самый крупный из сорокинских и наиболее энергоёмкий. Назвать его огромным человек искусства не посмеет, огромен «Бесконечный тупик» Галковского. В СССР самое первое постмодернистское произведение – этакое «Былое и думы» в небывалом формате, в формате «Бесконечного тупика». Десять тысяч проклятий в адрес совкового менталитета – они травили Галковского лет восемь, хором, всей страной, как в своё время травили символизм всей страной – тоже лет шесть-семь, почитайте мемуары Белого, они блистательны, хоть и прошлись по ним гусеничныеСТАНОВОЗЫ политической цензуры («политической» Белый называл большевистскую цензуру). Кстати, за ним приглядывали на самом верху – Каменев, например, стал рецензентом, предисловие даже накатал!.. Но я отвлёкся, хотя это полезно – народ пошёл мелковатый, ничего не знает, кроме своей е...чей карьеры, и знать не желает, если ТО не вписывается в его личную
стратегию. И на подлость на «недоказуемую» способен ради...
Итак, «Теллурия», словесность, 21-й век. Владимир Сорокин.
Роман состоит из пятидесяти фрагментов, глав разной величины и между собой почти или же абсолютно не связанных. Правда, есть и пары, взаимосвязь между коими бесспорна (к примеру: фрагменты 23 и 27). Таких пар штук пять. Есть
варежкою троица, по-моему, одна, фрагменты с 39 по 41. С другой стороны, основная тема – теллур и всё «вокруг зависящее», – проклёвывается значительно чаще, но тут мы, несмотря на нашу одноногость, всё-таки, понимаем, что в романе «Теллурия» не могло быть иначе. По-настоящему
клёвый момент сводится к следующему: героя в романе нет, если угодно, герой – металл, теллур. В утопии героя быть не должно, в антиутопии – ??! Уже в «Голубом сале» героя, по большому счёту, не наблюдается. Однако там персонаж, автор великолепных писем, Борис, пребывает, а точнее – тень отбрасывает на сотню страниц, и претендует на это «звание»; другие персонажи – тот же Сталин во всех его метаморфозах, – могут быть названы. А в «Теллурии» некого назвать, как бы мы того ни хотели. Лицо, появляющееся в одной лишь главе, не может быть названо героем повествования, да и «лиц» таких – эпизодических, – полным полно в книге. Следует добавить, видимо, что фантастическими подробностями эта утопия нашпигована до краёв: так люди делятся на три основных расы – большие, обычные (как мы с вами) и маленькие. Кроме всех
этих людей, говорящими и разумными оказываются выведенные с помощью чУдной генной инженерии небывалые существа: кентавры, например. Генетика вторглась и в животный мир тоже: выведены немыслимых размеров кони, используемые в качестве гадящих автобусов, вот так решили проблему общественного транспорта. Ха-ха. Ну и: женщины-зверушки, летательные приспособления супер-удобные и эффективные, фаллы разумные-страдающие, замысловатые детали воинской экипировки, сапоги-скороходы и много разного другого, о чём по ходу, может статься, я буду вынужден упоминать.
И... ядро замысла: страна обретённого счастья Теллурия, где-то в Алтае у северных границ Китая, который к тому времени, как и Европа, и знакомая всем детям Российская Федерация, разделены на несколько государств, трудно определить сколько, одно известно – и больших, и малых, и крошечных. Н-да, происходит эта история после двух жутких войн, 20-му веку и не снившихся по масштабам опустошения, а нами пока не пережитых, к счастью. Таков расклад, если совсем вкратце, отнесясь несправедливо
походя.
А теперь попытаемся погрузиться. Замечая, что замечается, пропуская, что пропускается... Разумеется, какие-то вещи вовсе
лежат на поверхности, грубо говоря –
и ежу ясно ЧТО! – но указывать на них необходимо, и мне придётся на это идти. Скажем: плотницкое дело. Кто не знает, чем занимался «отчим» Иисуса Христа? Такие ещё есть?! А чем занимался старший сын, по возвращении семейства из Египта и окончательном водворении в Назарет? Ну это же само собой! – первый помощник отцу, плотничал как и Иосиф. Спаситель был плотником. Верно и наоборот – плотник был Спасителем. В «Теллурии» плотники – люди, приносящие счастье (или же смерть, что тоже спасение – от жизни). Счастье подразумевает под собой полную независимость от времени. Среди прочих это условие обязательное. Не менее обязательное, чем первое – состояние блаженства. Профессия плотника о ту пору (во всей Евразии!) сверхпрестижна и очень опасна, поскольку теллур, клин из коего вгонялся мастером в темя клиента, – чем и достигался ожидаемый эффект, – повсеместно объявлен наркотиком (не считая Теллурии, маленькой счастливой страны). Так что этих мастеров Сорокин назвал плотниками не случайно.
Что ещё на поверхности? Смотрим. Не названный персонаж вспоминает о Москве: «Помню, был какой-то толстяк, по имени Поэт Поэтович Гражданинов, эстрадник эдакий, весельчак, он выходил на сцену всегда в полосатом купальнике и в бабочке, читал нараспев свои смешные стихи, а потом подпрыгивал, делал антраша и хлопал жирными ляжками так, что всё звенело. И этот хлопок почему-то назывался
оппозиция». Сие – из главы 30. Дмитрий Быков вряд ли проскочил мимо цитированного, но как отреагирует – да/нет, гадать что ли? А в главе 33 и того круче о протестном движении, закодированном этак: движение
pro-теста, мучного, в смысле, нет ни клякс, ни опечаток, – на Болотной площади, которое слабые свои силы собирает. Не хочу соваться, советовать, хихикать, но поражает: у лидеров абсолютное отсутствие филологического чутья, что ли? С
Болотной площади может начаться хоть что-то путное?
– Да за Собчак, за Ксению. – А что гонишь тогда? – Слушай, 100 лет назад был Рас-путин. Его убили. Изменилось к лучшему? Ни на грош! Кстати, он предрёк большевиков и уничтожение церквей ваших. Сроком на 11 семилетий распутье предвидел, если я правильно помню. И не сильно промахнулся, заметь!.. А сейчас Путин. Уберёшь его, будет лучше? Чёрта-с-два!.. Три-четыре поколения надо, выросших во второсортной демократии, чтобы поняли все плюсы и нюансы первосортной! Ясно? – А что за Ксению вдруг тогда? – Мерзко с ленивым и бухим, завистливым, недружелюбным и по убеждению полуграмотным большинством в одну урну с таким же точно бюллетенем... Продолжим: «Теллурия» значительно богаче. Сорокинские обескураживающие примочки – россыпь пародийных цитат, что некогда в моём кругу звалось перифразами. Пережившие эпоху Постмодерна литераторы прекрасно понимают: цитата, в том числе совсем невинная перифраза, не столько влияет на контекст, сколько сама окрашивается доминирующим оттенком текстового массива. С хлёсткими пародийными цитатами история другая, но она попроще всё-таки, поскольку пародирующее перо, как правило, придирчиво подыскивает соответствующий словесный аквариум, куда помещается им данное фразообразование. А помещается оно (фразообразование, а короче – перифраза) с определённой целью. Всегда ли очевидной? – отнюдь.
Фрагмент под номером 13 целиком посвящён безрадостному рассказу мыслящего фалла по прозвищу Кривой-6. Их там очень много, фаллосов разумных, во дворце опи….шей суки, абсолютно разнузданной и вечно
жаждущей удалых совокуплений, тридцатисемилетней вдовствующей королевы Доротеи Шарлоттенбургской. Благодаря бесподобному искусству генной инженерии бешеная вагина может получить фаллы какие угодно. Что и случилось – у королевы этой образовался гарем. Я не буду подробно обо всём подряд, ни к чему это: в своих записках Кривой-6 позволяет себе следующую перифразу:
бессонница, гарем, тугие телеса. Поклонников Мандельштама это коробит, их реакция рьяно эмоциональна, слепа и бестолкова:
у него в башке лишь похабный эпатаж, не более!.. Господа, вы ошибаетесь. Автор, Владимир Сорокин, имея цель эпатировать, задеть поклонников, развенчать или, по-русски выражаясь, обосрать великого поэта, мог найти сотнинесоизмеримо более: выразительных, трогательных, колоритных, ошеломляющих, резонирующих, эмоциональных, чувственных, драматичных или трагичных, гипнотизирующих, интеллектуально интенсивных, глубоких и насыщенных строк дабы это сделать! Но выбрал он
закультуренные и
залапанные средним вкусом строчки молодого, талантливого, не очень ровного автора, у которого в том же самом «Камне» есть куда более интересные вещи. А! – этот же писатель, коего в эпатаже обвиняли все, кому не лень, в той же 13 главе, печальной авторучкой фалла записывает: «Как всегда в
новейшей истории, лавры достаются бездарям». Слово «новейшей» выделено в книге италиком вряд ли случайно.
С перифразами я ещё не закончил. Надо ведь продемонстрировать обратное воздействие пародийной цитаты на оригинал, обратное низводящему, «развенчивающему» эффекту. Фрагмент или глава 7 необыкновенно важна для понимания нами писателя, его взглядов на историю, на
ситуацию, на мiр, если позволите. Сорокин в ней высказывает то, чего многие не посмеют, ввиду опасений подвергнуться остракизму, скажем, со стороны современных
западников, да и наоборот верно – со стороны оголтелых
патриотов. Я приведу
неудобные слова одного персонажа, князя из Рязанского царства: «Тотальный геноцид народа русского за шестьдесят лет не восполнишь. Большевики истребляли цвет нации, расчищая поле для жидовских репьев да быдляцкой лебеды». (Смертельная правда! Пускай частично, но всё-таки – правда, и что с нею делать?). А ниже писателем даётся реакция собеседника, графа из Московии: «М-да... мурло, мурло по всей земле, во все пределы...» И звучание известных, всеми занюханных, засаленных строк любовной лирики меняется, оно обретает совершенно другой оттенок: общественный, общественно-политический даже!
Вот что можно сделать одним перифразом. Ну, а моё, личное, предпочтение мужского рода женскому в названии термина останется на крючке моей совести.., невесомо висеть. Договорились?
Двумя вышеописанными случаями сорокинское тяготение к перифразу не исчерпывается. В «Теллурии» досталось всенародному
нынче любимцу Сергею Есенину – или здоровенному псу Качалова, – это как посмотреть: деконструктивно ли? концептуально-ядовито ли? – но мне по сердцу другой. Он загадочен, изобретателен на свой лад, и
плотное внимание не он вызывает, а контекст.
О главе 33-й уже шла речь в связи с протестным движением, точнее, в связи с движением «
pro-тестной массы». Мучной по сути. Это тесто «потеряло дрожжевую активность», было посредством испытанных в лабораториях Лубянки ухищрений «разжижено и благополучно слито в отстойники московского метрополитена». – Слили, – сказано автором. Стоп-п, не им сказано. Сказано странным существом, проснувшимся почему-то в футляре, с крыльями и хвостом, хотя вроде человек. И зовут его... ого! да это же Пелевин! Существо это, летающее, в кунжутных зёрнах на скатерти провидящее кардинальное изменение пути Колеса Сансары и контуров картины мiра, зовут Виктор Олегович! Так-так, птиц-Пелевин, хвост свой жующий птиц. Хорошо что не павлин! А чего он так упорно свой хвост жуёт, не аллюзия ли это к
индоловой инсценировке вещих показаний души в «Отеле хороших воплощений», едва ли не лучшей его вещи?.. И всё это на фоне бессилия демонстраций протестующих, очень хороших и, наверное, честных людей (в основном, из не потерявшей мозги столицы), желающих вне сомнений перемен к лучшему и, по нашему мнению (моему и моего пера: скобки здесь – дуракам с претензией), совершенно не разбирающихся в
тёмной топографии геополитики – науке о замаскированной жестокости, камуфляже беспощадных намерений, беспринципном умении воплощать их в жизнь и линяющем лицемерии.
Увидев второе зёрнышко кунжута, птиц-Пелевин решил, как я уже отмечал, что ситуация в мире меняется, а ежели два, значит и третий рядом. Третий! О Третьем (у Сорокина именно с прописной) птиц-Пелевин размышлять не решился. Ну а кто у нас Третий (с прописной)? Не царь же Александр, в конце концов. Так кто же? Третий – Дух Святой! Точно-точно: перифраз тому весомое подтверждение (о чём см. ниже), ведь не последний факт – второе, меняющее
картину мира чуть ли не на корню.., кто у нас Второй? Сын Божий – Второй. Троица – Первое Божество: Бог-Отец; Второе Божество: Сын Божий (
меняет почти всю картину мира, с чем невозможно не согласиться). Так вот о Третьем, о Божестве Третьем, о Духе Святом, Виктор Олегович, с хвостом во рту оставшись пред собою, решил не размышлять, комментируя своё решение мгновенно: это СМИРЕНИЕ. «Сегодняшнее». Напомню, фон главы – демонстрация протеста, без труда развеянная. А смирение, оказывается, каждый день разное – по ветру, по весу, по смыслу, по числу. Ну и т.д.
А теперь интереснее всего глянуть на столь неожиданный перифраз (оригинал здесь Блок), прочтённый птиц-Пелевиным: строки знаменитые, перифраз записан латиницей и слитно: Vbelomvenchikeizrozvperediuroboros.
В белом венчике из роз впереди... дальше, упорно копая, до бронзовых костей змеиной Бесконечности, кусающей свой хвост, доберёшься. Ну, змеиный завтрак. По кусочкам. Аттракцион! Концовка «рос» – российский, скорее всего; «обо» может означать: оборона. «Ур» –выше нашего понимания, разве что на шумерском
город, или какая-то аббревиатура современная, в упор невменяемая. С моей каланчи дела оно не меняет, пускай хоть имеется в виду халдейский город, откуда семейство Аврама уходило в сторону Ханаана осваивать лучшие земли, столь нужные для дальнейшего процветания пастушьего клана. У Блока здесь: Иисус Христос. Спаситель. Писателя Пелевина несистемная оппозиция чуть ли не на руках носит в Москве. Много лет, причём. Не выдумываю, – знают все. (Мне такой расклад не очень понятен. В сравнении с Сорокиным Пелевин – это в лучшем случае, годы учившийся писать Новиков-Прибой, в одной капсуле со Львом Толстым. Слог Пелевина?! – слог повседневного
хорошиста до «Ананасной воды для Прекрасной дамы», а знание психотропной
подоплёки и визионерских «прорывов» Психеи писателем века его ещё не делает). Скоро они назначат его богом!.. Ой! что я произнёс?! Буддой объявят, ну да, реинкарнированный – очередной раз! – Будда. В солнцезащитных очках. Будда же не бог. Или Кришной? Стоп. Кришна – спаситель, в общем-то. И Будда – спаситель, по-своему. Надо же, проблема! У оппозиции. Примерно такая же, какая у птиц-Пелевина, Виктора Олеговича, из романа-то, в решении небезызвестной
онтологической невъебенности: какова разница между, понимаете ли, «означаемым» и «значимым», чему посвящены замечательные строки в «Теллурии».
Сказал Драгоценный осколок: презренно уравненье единиц, цветные с плюсом, есть ещё с нулём... Подлинная, не утилизованная кухней и прочими нуждами культура, по природе своей – аристократична. В силу особенного, выработанного с годами качества – непредвзятости, – аристократичной культуре свойствен плюрализм: нас не удивляет, что аристократ духа признаёт необходимость справедливых условий и равноправия, этого реликта нищеты и терпения, для всех. Нас удивляет другое: почему-то не всем понятно, что каждому – своё место, а места вовсе даже не одинаковы. Значительно более, чем любой другой
болью В.Сорокин в «Теллурии» озабочен Россией, её настоящим, будущим, да и прошлым в немалой степени. Я вынужден либо пересказывать, либо забрасывать вас цитатами. Будь готов, дорогой читатель.
Сатирическую силу пера писателя мы можем почувствовать уже в главе 3. Ехидная
апология поборов главного мытаря (в библейском значении слова) в формате пародии на царскую грамоту, выдаваемую
Государеву топ-менеджеру, в коей финансовые взыскания «во славу КПСС и всех святых для счастья народа и токмо по воле Божьей» получают поддержку и оправдание в безудержно гипертрофированной форме абсолютно экзальтированной хвалы, а также – зрячего, т.е. осознанного смешения всех ценностей подряд что
под перо попали, и – с изнанки – самой смелой критики, высказанной без басенных или других эвфемистичных намёков совершенно напрямик. Цитирую с кое-какими пропусками по ходу: «... знающего, как произвести ... использование и недружественное поглощение, как эффективно наехать, прогнуть, отжать, отметелить, опустить и замочить в сортире
победоносную славу русского воинства в свете тайных инсталляций ЦК и ВЦСПС, сокрушивших лютых ворогов ... всего прогрессивного человечества комсомольским бесогоном аффилированной компании через
правильных пацанов православного банка...» Необходимо добавить, на мой взгляд:
вся эта «апология» представляет собою поток на три страницы, заключённый в одну бесконечно ядовитую, но смешную фразу. Вторая и последняя фраза – слово «Аминь». Мне чрезвычайно трудно передать тон третьей главы и всё её великолепие: это письменный дольмен, верный памяти дружинного беспредела времён недостоверных, и потому раскрывающий нам тайны саблезубого менталитета и, как следствие, пластунского раболепия, с противоестественной лёгкостью воцарившихся на снегоносные сотни и сотни лет, словно озверевший лес, и своей липкой, но крепкой паутиной опутавших гигантскую территорию с Канаду плюс Австралия площадью.
Седьмая глава, она же – фрагмент, состоит, в принципе, из диалога. Диалог красочен, потому как изобразительные способности и фотографическая память чернил писателя сию беседу, происходящую – где б вы думали? – на охоте, неназойливо
сопровождают. Обсуждается в нём всем известное прошлое России и – соответственно гладко, – иллюзорное настоящее (не забывайте: мы находимся
внутри утопии). Что касается былого, то превалируют оттенки пурпурно-бурой ненависти, едва подретушированные сеточкой вроде как
объективного знания. Вот характерный образчик: «Россию царскую, граф, батенька вы мой, немецкими руками завалили англичане, а выпотрошили сталинские жидовские комиссары. Потроха они продали капиталистам за валюту, а нутро набили марксизмом-ленинизмом». Это своего рода приглашение к обмену мыслями – тема, повторяю, огромная. И высказываются здесь ещё более хлёсткие вещи, помните, я выше цитировал о «жидовских репьях» и «быдляцкой лебеде». Есть продолжение в том же духе: «Вот она и дала потомство, лебеда-матушка! Её с корнем трудненько выдернуть!» Далее обмен мнениями между не столько персонажами, сколько между автором и читателем лавирует от края
Подлежит всенародному обсуждению до края
Не подлежит обсуждению ни в СМИ, ни в постели. Поначалу – о языке. Я цитирую: «Тридцать лет понадобилось, дабы вернуться к чистому ручью. ... Государство – это язык. Каков язык – таков порядок. Кто впервые поднял вопрос сей? Мы, рязанцы. ... Кто запретил суржик? ... Кто подал пример всем? И вашей Московии в том числе? Мы! ... Зато нынче – каков результат? Живая, правильная русская речь, заслушаешься!» Из слов князя, в данном случае, я выбирал самое необходимое. Для себя необходимое...
С князем из «нашего» фрагмента я не согласен. Государство – не язык. Мы помним историю: золотым образцом беспримерного маскарада, хладнокровного двоедушия и отточенного государственного иезуитства являлся Советский Союз. Язык государства там был:
лучшее и самое честное, человеколюбивое, гуманное, впервые для человека, за мир во всём мире, народу о народе, и это зерно – рабочему классу! и прочая, знакомая с детства поебень, от которой до раздваивания собственной души весьма недалеко. А что творилось в тридцатые – ну, лучше всего пролистать, допустим в Ленинке, подшивку «Известий» или «Правды» лет –
картины полной ради – за пять-шесть. Вот уж точно тошниловка... Зато страна – это действительно язык. Я убеждён: каков язык населения – такова страна. Более того – я пойду на рискованное обобщение, требующее твёрдых ситуативных дефиниций и сложного доказательства: через язык население способно влиять на государство, и тем самым – ввинчивать изменения не только в кодексе, но и в аппарате правления. Парламентарии об этом без нас догадываются, особенно те, у кого юридическое образование. Но для того им (депутатам) необходимо – о да! ещё бы! – владеть языком со всем его богатством...
Послушайте этих тупиц из Госдепартамента, обработанных идеологической штамповкой – у них в активе тысяча слов, ну полторы!.. Похоже – Америка сама же себя и сожрёт, там цветёт самоуверенность быка перед стадом, дескать, поимею всё стадо размеренно и всласть. Но перед ней не коровы, они – США – слегка забылись: посредственность «галстуков», проколы губернаторов, госсекретарей и прочих властных чиновников в познаниях элементарной (5-й класс школы!) географии лишь подтверждают: они очень надменная и высокомерная сила! Но слепая.
Отношение к языку – это экран, на нём мы прочитываем о личности больше, чем персона
предполагала раскрыть. Люди, в основной массе, этого не понимают. Вроде бы хорошо нам, поэтам: зачастую простые вещи являются для некоторых откровением. Но он (она, они) не знают нужного, ТОЧНОГО слова – всего-то!.. А отношение – в среднем взять – т.н. народа к языку, ну-у, населения, если в среднем?! Ведь тоже высвечивается, мы (поэты) видим это, слышим это, улиткой слуха, её нежной кожей в ушах чувствуем.
Я хочу, чтобы признаком аристократического происхождения (продолжая разговор на тему
аристократизма подлинной культуры) был не паспорт, родовое поместье с крепостью или генеалогическое древо. Нет, нет и нет – а чистота и богатство языка, красота твоей речи, русской речи, безупречность и утончённость твоего слога, индивидуального твоего (моего, хоть её) подхода, свидетельствующего о заботе о собственном языке. Вот что я хочу. В ООН писать о своём желании, разумеется, не помышляю – бессмысленно. Они же не позволят мне организовать антинародное гуляние, грустное и бескровное. Но проговорить обо всём этом для тебя, мой дорогой читатель, я посчитал своим долгом. Благодарю.
Вернёмся к «Теллурии», с орбиты основной темы не перескакивая. Вот ещё несколько слов о России, вложенных в уста того же князя человеком умным, смелым, сопереживающим не напоказ каждому вздоху страны: «... внутренняя деградация и неумолимое вырождение населения в безликую,
этически невменяемую биомассу, умеющую токмо подворовывать да пресмыкаться, забывшую свою историю, живущую ... убогим настоящим, говорящую на деградирующем языке». Подчёркнуто мною. Кто-нибудь посмел подобное произнести? Даже подумать такое опасаются... Ну и, наконец, откровенные, неизбывно точные слова: «Национальная идея, ежели она есть, живёт в каждом человеке государства, от дворника до банкира». И персонаж этот, князь рязанский, из новых дворян утопического царства, прав абсолютно, утверждая в итоге, что
национальной идеей, вообще-то, должен стать (и
всегда –
быть, добавлю я с горячего фланга) «Правильный, благородный, великий наш русский язык!»
Редуцировать истину все норовят, просто праздник для дурака...
Самый ценный читатель – читатель с нерастраченным вниманием...
Постмодернистская эстетика невозможна вне атмосферы пародии в той же степени, в какой карнавальная эстетика, при всей своей резвости и легковесной, на первый взгляд, конвивальной комичности, невозможна вне сатирического настроя... А далее... в дубовый рупор... нас оповещают... нет! – нам оглашают!.. письменный памятник добровольной сопричастности победоносной «простоты» инквизиторским инстинктам... Фрагмент одиннадцатый – аллюзия к роману Евгения Замятина «Мы». До умопомрачения однозначная: толстенным намёком слово
мы повторяется, либо склоняется, несколько десятков раз на двух-то страничках. Но Сорокин не может быть настолько прост, не в его стиле лепить глупо в лоб. В главе этой есть слова: «Горите же, приговорённые и обречённые. Дымитесь, тёмные мысли старых сомнений человечества!» Т.е. приговаривается к костру всё созданное, и меня не покидает ощущение при этом, что речь верноподданные Государства – «простые и прозрачные» – в первую очередь ведут о зафиксированном на бумаге. 451˚ по Фаренгейту, как нам известно, и есть температура возгорания бумаги. Вот тебе и
как бы не к селу упомянутый Бредбери! А в русской литературе уже был
зафиксирован опыт лишения жизни
сложного и непрозрачного. Того «непрозрачного» зовут Цинциннат, и живёт он в романе Набокова «Приглашение на казнь»,
антиутопии набоковской, выше мы о ней тоже вспоминали. Он всё время живёт, и всё время его
эти казнят. Точно-точно,
башку рубят, как выразился его шурин.
Что касается верноподданных «Совершенного Государства»,
этих «сияющих кирпичиков», – с них станется: продвинет закон какой-нибудь Милонов в Думе бывшей столицы, и объявят в прославленном всеми святыми великой русской литературы Санкт-Петербурге несчастную «Лолиту» вредоносной-педофильской, и устроят аутодафе всем изданиям романа. Приговор зачитают и театрализованное покаяние сварганят. А что не так? О педофилии «Лолиты» я сам слышал откровения, своими, простите за клише, ушами, от грудастых и сексапильных русскоязычных мещаночек слышал, в относительно свободной стране Израиль. А уж там-то! Были же когда-то возможны доносы от верноподданного населения; и не очень давно это самое КОГДА-ТО накрывало гигантскую страну: миллионы доносов, миллионы!..
Ниже я процитирую немалый кусок, посвящённый вИдению властью не своих полномочий, а, скорее, приоритетного понимания собственной роли, в том случае, если она (ВЛАСТЬ), во-первых: прочитала внимательным образом набоковский роман «Приглашение на казнь», а во-вторых: ознакомилась с главой под номером 11 сорокинской «Теллурии». Взят этот кусок из 28 главы «Теллурии», и он предваряет собой душераздирающий рассказ плотника по имени Иван Ильич (очередная аллюзия; на сей раз «Смерть Ивана Ильича» попала под руку Сорокину: блистательно, скажу я вам, попала – ничего общего с рассказом Толстого, тем не менее, невероятная «вариация» имеет место). Есть ещё и в-третьих , обязан поделиться: чтобы ей (ВЛАСТИ) до того додуматься, возможно ей хватит и
трудных страниц «Войны и мiра», хотя я в том сомневаюсь. Итак: «Вверенный мне мир людей крайне несовершенен. ... Чтобы направить этот мир на благо, цивилизовать и окультурить, сделав осмысленно-полезным для человечества и осознанно-благопристойным для истории мировых цивилизаций, нужно уметь обращаться с этой гомогенной массой... ... А для этого надо победить в себе желание различать в этой массе отдельных личностей, надо стремиться видеть её самоё как единую личность, надо понять и принять истину, что люди – это только масса». Ох, круто, тёзка! Круто!!
Чуть-чуть похулиганив, расправим плечи.., и стремглав оправдываемся: никому мы-мы ничего мы-мы-мы не подсказывали. Абсолютизм зародился без н-н-нашего вмешательства. Ну, ей Богу!.. Диктатура? И диктатура вроде т-т-тоже...
Кстати, в 14-м фрагменте, мы ведь столкнулись с похожей лексикой. Там обсуждался вопрос
управления рабочими
массами, среди прочего. А есть и такое: «Попытки завоевания русских степей европейцами демонстрируют синдром, прямо противоположный клаустрофобии – агорафобию. Именно её испытывали армии Наполеона и Гитлера, продвигаясь на восток. Бескрайние пространства пугали европейцев. Они не понимали, как можно их
цивилизовать и окультурить. Поэтому и потерпели поражение». Всё это наводит нас в очередной раз на ретроочитые размышления...
«... мудрые государи принимали все меры к тому, чтобы не ожесточать знать и быть угодными народу, ибо это принадлежит к числу важнейших забот тех, кто правит».
Никколо Макиавелли. «Государь».
«В Царском – светлая тишина. ... ... ... ... ... А память о Петлюре да сгинет».
Михаил Булгаков. «Киев-город». Презанятная деталь: малочисленная партия будущего, чьей главной проблемой оказалось
управление рабочими массами, зовётся у Сорокина
футуристы. Цитата: « ... а кто должен управлять рабочими массами? – Мы! – почти выкрикнула Маша». Роман Евгения Замятина был назван «Мы» в знак презрения к излюбленному русскими футуристами (ныне принято их
чернилить кубофутуристами) приёму – побьём-ка МЫ СЕБЯ в широченную грудь-дь! – использованному ими в своих громогласных манифестах.
Однако пора оставить аллюзии в стороне – хочется вернуться к сути вопроса и, всё-таки, на основе сорокинского текста, иначе что мне тут плести?.. Для этой цели самый подходящий фрагмент – 37-й. Автор, смею предположить, не беспричинно поместил данный фрагмент под цифирью 37. Признаться – ничего более неожиданного, чем события в этом ни с чем, на первый взгляд, не связанном фрагменте, несмотря на наличие псоглавцев, полуторатонных монстров-трупоедов, приговорённых к изнурительному лабораторному рабству думающих фаллов и прочая, проч., пр., в антиутопии «Теллурия» я не
повстречал, – как хотите, так и реагируйте.
Красавица Таня, наследница трона кремлёвского (Москвы), специально и не впервой, что мы ненароком обнаруживаем – к нашему же изумлению! – из разговора великолепной героини с не играющим для нас ровно никакой рояли Николаем Львовичем, ответственным за неё перед государством, – сбивается с обговоренного между ними маршрута, дабы... пишу и не могу поверить... быть изнасилованной! И сие – подчеркнём ещё раз – вновь, и вновь, и вновь случается. Таня одаривает нас почти точной цитатой из «Приглашения на казнь», вспоминая проделки жёнушки Цинцинната: «А Марфинька сегодня
опять это делала...» Так настойчиво отсылает нас к Набокову Сорокин. Ох, неспроста! Кстати об аллюзиях, цитатах: эта Танюша повторяет строки Пастернака, Цветаевой (с предсказуемой ошибкой, поскольку глаза видят снег, происходит в голове путаница, память-то у неё просто отменная). Настолько глубоко автор – Владимир Сорокин – погружён во впадины русской литературы, до мелочей, до едва очерченных,
как узелок с бельём, сравнений! Но меня интересует нечто большее, чем общая линия в 37 главе; ведь Божество кроется в деталях, утверждали художники Возрождения. И я им склонен верить. Вот о чём, тщательно, оценивая буквы, запятые...
Итак – речь тут не о персиках, мы о сцене насилия над женщиной и о выводах. Чтоб сразу сориентировать читателя, обращаю его внимание на
жирно воспроизведённый писателем момент: «Голубой каблучок Татьяны беспомощно скрёб и молотил по гнилому полу сарая, скрёб и молотил, скрёб и молотил, скрёб и молотил, скрёб и молотил, словно зажил своей, отдельной от тела ... жизнью». Глаголы повторяются больше, чем назойливо, – читатель будто запомнить должен эти движения. Разумеется, момент воспроизведён методикой художника слова, но наличие глубоко спрятанного намёка сия методика не исключает, как раз наоборот. Молотит, во-первых, молот. Во-вторых, молотьба неотрывна от забот сельчанина. Стало быть, с помощью основательно подзабытой
савецкой науки прочтения, в данном случае:
выявления контуров подстрочного слоя, что на московских кухнях не без юмора называли чтением между строк, пасторальная аура у нас воцарилась сама собой, пыльного напряжения не испытывая, и в наше эссе проник бесшумно, как шпиён Мосада, глагол – «скрёб». Серп, конечно, не скребёт, хотя скрести может, если постараться, а вот о каблуке вроде не скажешь «срезает». «Скрёб и молотил» я прочитываю, как намёк на знакомую до колик
эмблему: серп и молот. А теперь бессовестная, как мы намедни с вами договаривались, логика быстро подсказывает: если интуитивное предположение верно, то в дальнейшем разыскание подкинет нам подтверждения нашей догадке. Попробуем разобраться.
Танюша, как зовёт её близкая подруга, не просто какая-то княжна, решившая апробировать чары своей соблазнительности на простом народе. Танюша
скользнула в хоромы наследника, когда её в Кремль привезли, и потому за неё такая
ответственность перед государством у телохранителя (с целой командой)! Танюша имеет прямое отношение к власть имущим. Ею очень дорожат – важный нюанс. Она прямая наследница, повторяю.
Уже лёжа в ванне с розоватой водою, Татьяна перебирает в памяти подробности недавнего
приключения. И подводит итог (я отдаю себе отчёт в двусмысленности моих слов, но ничего не поделаешь, того требует правда) произошедшему глубоко философскими заключениями: «Тотальная беспощадность желания», «Потрясающая беспомощность наслаждения». Здесь бы всё оборвать да поставить точку – звёздная лаконичность как венец эмпирике!.. Да не тут-то было – Таня по ходу проговаривает (я сокращаю): «... крал ты, ворон, иль ты врал...», вдобавок к тому чисто женская жалость смешивается с восторгом, далее – раздаётся звонок от подруги и происходит сверхстранный диалог. В ходе того диалога читатель убеждается в своей догадке окончательно – Татьяне в кайф происходящее, и – как выше отмечалось, – всё это не впервой, что заставляет страдать её подруг и близких (а ведь казалось бы: «Рядом – полк кремлёвский, красавцы, парни – кровь с молоком...», на черта ей хождение в народ! да ещё столь рискованным способом)! На что Татьяна вспоминает Достоевского, страдания, мол, очищают. Но это цветочки. Ягодки ниже, Татьяна говорит Апраксиной: «Ох, Глашенька, как это всё же важно – давать народу своему...» Апраксина опешила, однако на её глумливый вопрос: «Чтобы не изменил?», получает ещё более странный ответ: «Чтобы любил».
Надеюсь, читатель понимает, что ВСЁ ЭТО сложно, и
верхнеобразовательной клюквой, вроде – хо-хо! –
травестийности, не объяснить, ну, разве что поверхностным дамочкам из старых и очень
толстых журналов сей звучной
липы станет достаточно. Но не нам...
Так что же тут – там, в «Теллурии», в главе 37! – происходит? Не до смеха ведь. Похоже, автор здесь не столько моделирует отношения власти с народом, сколько пытается отобразить их, опираясь на опыт. А что тут
опыт, как не жизнь автора в
савецкое время? И вот мы вместе с автором вспоминаем советские времена и с удивлением находим, что Сорокин абсолютно прав: власть делала вид, что
платит, а народ делал вид, что
работает. Народ
крал, потому что власть
врала. И со времён Оттепели именно такие отношения воцарились бесповоротно в стране. Очень показательна часть фразы, раньше не полностью приведённая: «... словно зажил своей,
отдельной от тела Татьяны жизнью». Жизнь страны была
отдельной от жизни верхов. И мы видим: нога Татьяны производит однообразное машинальное действие – автор отмечает не только
машинальность, но и фактическую
отдельность, несвязанность ноги с телом. Власть давала надругаться над собою (над «честью» своей!) физиологически лживой, до мозга костей
фальшивой верности, и покупала её, эту крепостную верность, глядя сквозь пальцы на воровство по мелочи со стороны народа. И народ продолжал за то
любить доброе начальство. Хуже даже: продолжает! – вспоминает о подлых временах с
тоской. Вот почему я упорно стою на своём: скрытая анаграмма Серпа и Молота – «скрёб и молотил...», а для уха чуткого в ней и того больше...
Я полагаю – читателю стало ясно, что слово
эпатаж неуместно в разговоре о Сорокине. Нет сегодня писателя в России столь глубоко чувствующего эту страну, как Сорокин. Потому он в своей антутопии развалил страну на множество государств: так
виднее прошлое, оценить его можно верней. Ведь без понимания прошлого в настоящее врубиться тяжелей. А о том, чтоб его суметь
подправить, говорить вообще не приходится, всё сломаешь сдуру-то! России известна ведь
одурь от моря до моря. Ну вот и всё... Макиавелли остался б доволен: магме народного ропота не даёт вскипеть подобная негласная договорённость, сохранён баланс в
отношениях. И утопия Кампанеллы три десятилетия морочила мир небывалыми науками и трудом – чего только не было!.. Видно, недаром перу Владимира Сорокина принадлежит на редкость откровенная фраза: «У меня претензий больше не к немцам и жидам, а к русским...» Всё там же прописано, в «Теллурии».
И, пожалуй заканчивая о прошлом, поделюсь я любопытной новостью. Недавно официоз – программа Владимира Соловьёва ведь официоз, правда, и ведущий в ней
правдоносец, – озвучил историю времён Оттепели мало кому известную. Твардовский запросил у верхов зелёный свет на публикацию «Одного дня Ивана Денисовича». А тут как нельзя кстати, накануне по историческим меркам, пропечатали решения 22 съезда
очень любимой партии. Никита Хрущёв, на чьей совести тысячи смертей, посоветовавшись с товарищами, разрешил публикацию повести в том незабвенном «Новом мире» (не путать с нынешним, господа), поскольку сие «подтверждало» чистоту его намерений и действий. Я
ничего вам не сгущаю: 22 съезд имел резонанс, сравнимый с резонансом после 20 съезда: тело Людоеда из Мавзолея страны решено было вынести! Этот факт дал Хрущёву возможность
отмазаться на многие годы, а публикация «Одного дня» становилась важнейшим документом эпохи, и – секи! – в пользу хитрющего из главных сталинских палачей. Но Украина-то не забыла ему 38 год!.. И я не сомневаюсь, что кровавый
ценитель абстрактного искусства все свидетельства о своей «видной
общественно-полезной деятельности»
в тройке до последней запятой
уничтожил. Таким
макаром там, на севере отсюда, в Гиперборее, писалась История.
«Предо мною – распутье народов». Иван Коневской. (Вещь не закончена, называется «Среда», написана в первый год 20-го века). «В поэзии слово – цель, в прозе... ... – средство». В. Брюсов. «Miscellanea». Начнём со справедливости. Справедливость – та самая, в коей нужда острА по всему мiру вне зависимости от постороннего мнения, – требует согласиться и с высказыванием Брюсова, и со строкой его друга и коллеги-единомышленника, утонувшего в молодости. Тем не менее, Справедливость настаивает и на внесении ясности:
слово являлось наипервейшей целью в «Серебряном голубе» с «Котиком Летаевым», в «Лолите» с «Другими берегами» и «Даром», в «Тёмных аллеях», «Снах Чанга» и «Антоновских яблоках», не говоря о произведениях как упомянутых авторов, так и не попавших (пока) в список, самобытностью своей взывающих к пересмотру приписанного им некогда ранга, – возражает она вполне убедительно, и по той причине добавляет с присущей ей строгостью. – Необходимо внести однозначно трактуемые поправки в срочном порядке...
Клянусь грациями, чудесные сны видит моё перо!..
В самом деле, пренебрегать изложенным выше нельзя. Касательно перечисленных романов, повестей и рассказов, можно найти, не обливаясь потом, исчерпывающее объяснение: всех их выделяет тот факт, что их авторами являются поэты. Не просто в прямом смысле этого слова, а в – основополагающем. (Ибо представления, формирующие мировИдение у поэтов и остального множества, разнятся. В силу чего периодически возникают совершенно нелепые недоразумения. Такое, например: стихотворцев в одной лишь Москве, по сетевым данным, около шести с половиной тысяч. Все они мнят себя поэтами. По прошествии нескольких лет две трети из этого числа поймут, что поэзия – не их призвание. ТАК ПРОИСХОДИТ КАЖДУЮ ДЕКАДУ. Но их заменят тысячи молодых и не очень разборчивых. Зато очень обидчивых... Я с полной уверенностью заявляю: поэтов в Москве на порядок меньше указанного числа, а хороших – на два порядка).
Бесспорно – Белый, Бунин, Набоков – поэты, зачастую проза этих авторов свидетельствует о том ярче, нежели стихотворные тексты. Тем самым
однозначно трактуемую поправку – одну пока, – мы уже внесли. Но этого мало. Поскольку вопрос с Пильняком (повесть «Голый год» и, в особенности, рассказ «Метель») остаётся открытым: то ли цель, то ли средство – верно и так, и эдак. А что с Лесковым, с его рассказами? – вроде бы
слово средство, а присмотреться – цель. С Сашей Соколовым та же история. И с Сорокиным, как ни странно. Его мастерству я намерен посвятить целый блок слов. Цель такая.
Писатель этот несомненно владеет очень разными почерками, если под
почерком иметь в виду
стиль. Что достижение не одноразовое. Письмо Сорокина обогащалось со временем примерно так же, как возрастают запасы грунтовых вод в сезон дождей. Не спеша вроде, да наверняка. Если оценивать эволюцию со времён «Нормы», – я вижу это следующим образом. Роман «Норма» является скандальным прощанием – так в гневе хлопают дверью, уходя, – с соцреализмом средствами соцарта. Впрочем, роман разносторонний: кинематографичность
самой первой части я отмечал выше –
наглядность этих сцен,
демонстрация наглядности через
речь, соперничают выразительностью со сценами из «Масок» Белого, а там где Белый лучший (из Белого), быть на равных с ним фактически невозможно, ведь он невероятен! Ещё соображение по поводу «Нормы»: угадывается скорый сорокинский постмодернизм в этом романе, который развернётся непосредственно как тотальный приём – тоже на пробу, кстати, – в «Тридцатой любви Марины». В «Голубом сале» постмодернизм уже царит без стеснений (да ещё и с привлечением деконструктивных «забав»).
А что «Теллурия»?.. «Теллурия» взрослее. Это мощный опыт литературы будущего. Роман – пусть хоть и антиутопия, – отвечающий запросам синтетизма. Опасная фрагментарность вдруг становится преимуществом: способствует свободному
проныриванию из жанра в жанр: жанровый синтетизм в рамках одного произведения. Постмодернистская имитация любой идеологической накипи тоже становится преимуществом: способствует издевательскому дуракавалянию (карнавального типа) развернуться наотмашь, что свойственно только
зрелой культуре. В данном случае, совершенно не важно носителем
той зрелости является индивидуум или же культурный эон: дело в том, что одно без другого невозможно. И я не поленюсь объяснить: русская культура, её словесность, до
дуракаваляния дозрела давным-давно. Русскому дадаизму больше ста лет – Кручёных и Ильязд ещё до 41˚ создавали вещи
дадаистского толка по своим признакам. Мне надоело об этом говорить в двадцатый раз (ну да, в разной форме и в разном формате, что с того? – а первой это подметила лучший специалист в отрасли Татьяна Никольская), на родине русского языка слышать ничего не хотят, там функционерство, видимо, в крови, стоит добиться чего-то кому-нибудь в карьере, ПИЗДЕЦ – он становится
начальником. А дальше всё элементарно: начальник не слышит, уши заложены, он проталкивает своё. Либо вдруг согласен с инициативами, спущенными вниз – на ЕГО стол.
Самым главным аргументом
в пользу всегда была и остаётся
убедительность письма. Что с этим в «Теллурии»? Как нельзя лучше – остриём всех благ теллур, металл, неодушевлённый проводник в рай на земле. Теллуру легко быть героем, ах,
главным героем! Государственная разрозненность будущего (в пику глобализму) позволяет автору проецировать
спектакли собственного воображения в той форме, в какой его гениальному перу удобно (я называю вещи своими именами), да-да: стремление человека к счастью никто не отменял; небывалое противостояние культур (вообще-то, цивилизаций) в современной истории тоже не удалось отменить; бремя ответственности и осознание этого бремени
человечно даже в антиутопии. Синтетизм Сорокина разнообразен и имеет платоновские корни (Платонов был знаком с
импульсом Нельдихена, а может и с теорией), вот образцы: «Аптекарь потно повиновался», «...всем было восторженно и бесприютно», «Рушатся удивлённо на степную землю».
Наиболее трогательная,
печалью светлой овеянная история в этой книге – безнадёжная история влюблённого кентавра. Понятный и проникновенный язык, которому, по-моему, даже Павич позавидовал на небесах. И Коломбине место тут же нашлось: мелькнула, исчезла – драма налицо!
День президента небольшой, но безусловно счастливой страны подан как в
доброй, хорошей до невозможности сказке, но ведь так и должно быть. Кстати, суббота для того президента рабочий день, как и для правительства.
Гимн теллуру в «Теллурии»... Гимн ослепительному потенциалу «забивших сверкающий теллуровый кол в могилу земной неприкаянности». Написан он мог быть только в России и никогда на Западе. На Западе не хватит
униженных и оскорблённых на протяжении истории, дабы выплеснулось накопленное через чьё-нибудь перо в таком виде. Надо говорить о том? Правильно – надо... Особое спасибо Владимиру Сорокину за 437 страницу (ACT: CORPUS, тв. переплёт). Ему хватило такта, перечисляя открывающиеся перспективы перед человеком, не упоминать имени Людоеда. Хотя о злодеях (великих) автор не забыл.
Совершенно бесподобна концовка! 50-й фрагмент резко контрастирует с предыдущим, т.е. с упомянутым гимном. Стал ли сей финальный фрагмент
спектаклем истинных намерений в припадке остроликой скромности?.. Не думаю, что художник воспроизвёл свою ипостась, но разошёлся он с царственной уверенностью в своих силах.
Плотник – язычник! – Гаврила Романыч, шесть лет на княгиню отбарабанил («самокатил» шофёром). По ремеслу страшно соскучился, руки работу искали. И он в лес подался. Странно – я у Набокова на стихотворение напарывался, в котором автор (бишь, «лирический герой») мечтал ретроспективно, – что случается с людьми пожилыми, – об уединении в лесу (на всю жизнь, что характерно). Русский лес красивый, но мечта?! Может быть, тоже чисто русская?.. Это же необыкновенный вид отшельничества, там красота рядом, ты не один, ты с нею, и она – мягкая! Да и – ведь лес поддерживал деревенские семьи веками...
Гаврила Романыч с бешеной скоростью и великим умением срубил себе избу в лесу, описано это – глазам не веришь. Впечатление, что писателю серьёзные уроки не только у плотника, но и у лесника надо было брать, всё знает: как сруб сложить
белый, колодец в лесу вырыть. Печь справить – так оно пара пустяков: «нарублю кирпичей из бульников» (в лесу)! А финиш повествования зачёркивает вообще всё: «Нам лишнего не надобно, ни баб ... ... ни гвоздей, ни войны, ни денег, ни начальства вашего. ... ... ... Дом есть, крыша не текёт, пожрать есть что. ... паши знай на себя любимого. Спи, когда тебе вздумается. Кланяйся токмо солнышку. Ласкай токмо зверушку лохматую. Пререкайся токмо с птицами лесными. Что ещё человеку надо?» Гавриле Романычу, наверное, ничего. А вот автор мне не показался оптимистом – ни лесным, ни городским...
«Да ведь как уж... не нами заведено... невозможно менять, – возражали арестанты». Вл.Короленко. «Фёдор Бесприютный». «... простые сердца менее чутки к кощунству, хотя бы только слегка прикрытому обрядом». Вл.Короленко. «Парадокс». Есть вещи, которые облагораживает намёк, повышая мгновенно их ценность, а размазывать о них страницу за страницей – дискредитировать время, тебе отведённое, вкус, образ мысли. Тем и хороши цитаты: недосказанное высветят. И пульс переживаний не собьют.
Декабрь 2017 – январь 2018 ________
Предыдущая версия эссе опубликована на авторском ресурсе (ныне замороженном) «ЗНАКИ ВЕТРА»скачать dle 12.1